Апологетика религии Осириса в египтологии
(Апологетика веры в вечную загробную жизнь в египтологии)
Алекс Кандр
«Открытие новых данных для изучения египетской религии, рост материала совершается с поразительною быстротой. Это обстоятельство не дает, впрочем, нам возможности начертать полную и точную картину древнеегипетской религии. «Наоборот, замечает Wiedemann в своей Religion der alten Acgypter, «чем больше добывается материала, чем основательнее он разрабатывается, тем темнее становятся начала, теории одна за другою оказываются ошибочными, и на их место не появляется ни одной очевидной истины»». Е.Г. Кагаров
Эта тема стала актуальной в связи с результатами обсуждения работы «Тайна происхождения Индуизма» на одном из исторических форумов, наиболее авторитетные участники которого, вполне закономерно, придерживаются «академически выверенной и строго научной» точки зрения в вопросах религиозных приоритетов древних египтян в контексте доктрины бессмертия человеческой души. И эта «научная» точка зрения противоречит представленному в первой части «Тайна происхождения Индуизма» совершенно иному взгляду на историю формирования религиозных представлений древних египтян о бессмертии человеческой души, в основу которого положено обоснование причины происхождения (генезис) веры в вечную загробную жизнь в религиозной культуре населения долины Нила в последней трети IV тысячелетия до н.э., сугубо в качестве альтернативы исконной веры египтян в переселение души, сохранявшей свою актуальность для большинства египтян на протяжении всей истории существования Древнего Египта.
Возникшие разногласия с участниками форума и стимулировали меня отстаивать свою позицию в этом вопросе, кардинально противоречащую академическим воззрениям, фактически, декларирующим тотальное доминирование в египтологии «апологетики веры в вечную загробную жизнь» в качестве исконной веры населения долины Нила.
В академических кругах египтологии, благодаря деятельности нескольких поколений египтологов, специализировавшихся на изучении египетской религии, сформировалось консолидированное мнение о приверженности испокон времен населения долины Нила к вере в вечную загробную жизнь, как одной из двух парадигм религиозного мышления доктрины бессмертия человеческой души. При этом категорически отрицается присутствие в религиозной культуре египтян альтернативной парадигмы религиозного мышления – веры в бессмертие души в череде её перевоплощений, веры в переселение души.
Подобное положение вещей в египтологии с весьма избирательным отношением в ней к двум парадигмам религиозного мышления, одной из которых отдается предпочтение, сопровождающееся хвалебной риторикой, а вторая признана априори неприемлемой для египетской религии, соответствует в тексте терминологии: «апологетика веры в вечную загробную жизнь в египтологии» или «апологетика религии Осириса», в основе которой и лежали представления о вечной загробной жизни в царстве мертвых Осириса.
Один из выразителей и популяризаторов апологетики веры в вечную загробную жизнь в египтологии, Герман Кеес (1886–1964), в своей книге «Заупокойные верования древних египтян» (1941г) весьма предвзято и безапелляционно отрицает сам факт присутствия в религиозной жизни населения долины Нила учений о переселении души, оспаривая таким образом свидетельство Геродота V века до н.э. Он заверяет читателей своей книги в том, что Геродот якобы совершил ошибку, приписав египтянам приоритет в создании учений о переселении души, впоследствии заимствованных древними греками, факт чего также категорически отрицается, поскольку, по мнению Г. Кееса, эти учения «на самом деле были чужды египетским воззрениям» (2), или «учения, чуждые египетским представлениям» (3).
Вот с этим состоянием академической науки в египтологии мне и представилась возможность ознакомиться, общаясь, пожалуй, с самым авторитетным участником форума под ником L. G., эрудиция которого по тематике обсуждаемых вопросов позволила мне предположить, что он, безусловно, является самым компетентным и уважаемым из профессиональных историков этого форума, вполне закономерно, отстаивающим наравне с своими единомышленниками по форуму приоритеты академической науки на просторах Интернета.
Свидетельство Геродота о приоритете египтян в создании учений о бессмертии человеческой души:
«Геродот (II, 123). Египтяне также первыми стали учить о бессмертии человеческой души. Когда умирает тело, душа переходит в другое существо, как раз рождающееся в тот момент. Пройдя через [тела] всех земных и морских животных и птиц, она снова вселяется в тело новорожденного ребенка. Это круговращение продолжается три тысячи лет. Учение это заимствовали некоторые эллины, как в древнее время, так и недавно». (3)
Мои же попытки подтвердить справедливость свидетельств «Отца истории», Геродота, были восприняты крайне негативно участниками форума в качестве ни много ни мало – «глобальных выпадов против академической науки как таковой». (L. G.)
Предлагаю читателям самим убедиться в том, насколько несостоятельна, а порой на редкость абсурдна аргументация апологетов религии Осириса от египтологии в их стремлении дискредитировать свидетельство Геродота, совершив «экскурсию по дебрям и закоулкам» фальсифицированных в египтологии представлений о религиозной культуре населения долины Нила. Это позволит продемонстрировать совершенно чудовищные последствия деятельности единомышленников Г. Кееса от египтологии для Науки, в целом, как результат нарушения ими азов критического мышления и здравого смысла, что тем не менее, отчасти, и востребовано в гуманитарных разделах академической науки, под чьим покровительством и благоденствует апологетика религии Осириса в египтологии.
Способы дискредитации Геродота и их последствия для египтологии:
№1
И если, например, автор книги «Религия Древнего Египта» (1906г), Кагаров Е.Г. (1882–1942), «на основании тех данных, которые были выдвинуты новейшей западноевропейской наукой» подрывает доверие к значимости «сообщений» Геродота, ограничиваясь лишь какими-то туманными в своей предвзятости аргументами и крайне пренебрежительными отзывами, по всей видимости, своих западных коллег:
«Сообщения Геродота во 2-ой и начале 3-ей книги его «9 Муз» зачастую не заслуживают доверия: греки любили сближать божества других народов со своими, увлекаясь иногда чисто внешней аналогией». (1)
То Г. Кеес предпринял, по всей видимости, по его мнению, более аргументированную попытку дискредитировать свидетельство Геродота, тем не менее приведя в своей книге крайне противоречивую аргументацию не столько в пользу опровержения свидетельств Геродота, сколько подтверждающую их истинность. При этом он допустил нелепейшую ошибку, смысл которой становится предельно очевидным из текста его аргументации, процитированного М.А. Коростовцевым (1900–1980) в своей книге «Религия Древнего Египта» (1976).
Даже не подозревая о сути этой нелепейшей ошибки, мне любезно предложили опровергнуть эту аргументацию Г. Кееса, по всей видимости, в надежде на то, что у меня возникнут затруднения:
«По поводу Геродота, опровергните, пожалуйста, приводимое М.А. Коростовцевым мнение Германа Кееса (L. G.):
«По этому поводу Х. Кеес вполне резонно замечает: «Факты здесь отмечены правильно: бессмертие души и представление о ее способности принимать разные образы. Но философское оформление этой идеи, система — греческая, несмотря на приоритет египетского содержания. Геродот явно имеет в виду учение Пифагора о бессмертии души и такое же учение Эмпедокла, а затем более поздние учения с трехтысячелетним периодом Платона — учения, чуждые египетским представлениям». (3)
Во-первых, из того факта, что, как пишет Г. Кеес: «Геродот явно имеет в виду учение Пифагора о бессмертии души и такое же учение Эмпедокла», совершенно не следует, что авторами этих учений были древнегреческие мыслители: Пифагор, Эмпедокл или кто-либо иной, а следует лишь подтверждение свидетельства Геродота о заимствовании древними греками (эллинами) египетского учения: «… Учение это заимствовали некоторые эллины, как в древнее время, так и недавно», что в полной мере относится к Пифагору (ок. 570 – 490 гг. до н. э.) и Эмпедоклу (ок. 490 – ок. 430гг. до н. э.).
Эмпедокл был лет на шесть старше Геродота (ок. 484 – ок. 425гг. до н. э.), что и подтверждает слова Геродота о заимствовании некоторыми эллинами учений египтян «в недавние времена» – «так и недавно». Следовательно, эти аргументы Г. Кееса совершенно неспособны поставить под сомнение свидетельство Геродота.
Во-вторых, удивление вызывала абсурдность подобного заверения Г. Кееса, дескать: «Геродот явно имеет в виду … более поздние учения с трехтысячелетним периодом Платона».
Абсурдность подобной аргументации Г. Кееса, которую мне ещё и предложили опровергнуть, настолько очевидна, что невольно задаешься вопросом: а понимали ли её смысловую абсурдность те, кто обратился ко мне с просьбой опровергнуть аргументацию Г. Кееса?
Ответ вполне очевиден, стоит лишь соотнести между собой годы жизни Геродота (ок. 484 до н. э. – ок. 425 до н. э.) и Платона (428/427 или 424/423 – 348/347 до н. э.).
Это ж каким образом Геродот мог иметь «в виду … учения … Платона», приписав их египтянам, коль скоро он умер задолго до того, как Платон начал свою плодотворную деятельность выдающегося древнегреческого философа?
Могу предположить, что М.А. Коростовцев вполне умышленно привел в своей книге столь абсурдный по смыслу комментарии Г. Кееса, не разделяя его стремление увенчать триумфом апологетику религии Осириса в египтологии, тем не менее лишь формально выразив солидарность с ним: «По этому поводу Х. Кеес вполне резонно замечает: …»
Озадачившись подобным «опровержением», фактически, констатацией абсурдности аргументации Г. Кееса, мне предложили прокомментировать другой вариант перевода этого фрагмента текста книги Г. Кееса, изданной уже в 2005 году СПб. Изд-во «Журнал ,,Нева“» / Пер. с нем. И. А. Богданова; Под научн. ред. А. С. Четверухина:
«Заметим: постулаты, т.е. бессмертие души и представление о ее перевоплощениях, очерчены верно. Но философская оболочка, сама система, являются греческими, даже если предпочтение в ее открытии отдать египетской мудрости. Геродот явно намекает в своем комментарии на учение Пифагора о бессмертии и на встречающееся у Эмпедокла, а позднее оформленное Платоном учение о переселении душ с его 3000-летним периодом очищения, которое было на самом деле чуждо египетским воззрениям». (2)
Второй вариант перевода текста замечания Г. Кееса, формально, не меняет сути того, о чем речь шла в предыдущем варианте. Поскольку, если «учение о переселении душ … Платона» ранее встречалось у Эмпедокла, то это опять же свидетельствует в пользу слов Геродота: «Учение это заимствовали некоторые эллины, как в древнее время, так и недавно».
Платон, конечно, мог развить это учение, спору нет, тем не менее этот факт никоим образом не дискредитирует свидетельство Геродота о приоритете египтян в создании этого учения, как и самого факта концептуального обоснования египтянами веры в бессмертие души в череде её перевоплощений, чему и свидетельствуют их учения о переселении души.
Если осмысленно подойти к сути того, о чем идет речь в тексте Геродота о приоритете египтян в создании учений о бессмертии человеческой души, для чего вновь его процитируем:
«Геродот (II, 123). Египтяне также первыми стали учить о бессмертии человеческой души. Когда умирает тело, душа переходит в другое существо, как раз рождающееся в тот момент. Пройдя через [тела] всех земных и морских животных и птиц, она снова вселяется в тело новорожденного ребенка. Это круговращение продолжается три тысячи лет. Учение это заимствовали некоторые эллины, как в древнее время, так и недавно». (3)
То выясняется, что в нем и вовсе не идет речь в буквальном смысле об учении с акцентом на «3000-летний период очищения», принадлежность которого египтянам и пытается опровергнуть Г. Кеес. Возможно, в учении Платона и фигурирует «3000-летний период», осмысленный им как «период очищения», тем не менее оспаривая его принадлежность египтянам, Г. Кеес никоим образом не оспаривает сам факт принадлежности египтянам учения о переселении души, поскольку свидетельство Геродота, формально, содержит в себе три самостоятельных утверждений об учениях египтян:
1. «Египтяне также первыми стали учить о бессмертии человеческой души».
2. «Когда умирает тело, душа переходит в другое существо, как раз рождающееся в тот момент».
3. «Пройдя через [тела] всех земных и морских животных и птиц, она снова вселяется в тело новорожденного ребенка. Это круговращение продолжается три тысячи лет».
1-е утверждение содержит в себе концепцию бессмертия человеческой души в череде её перерождений в подлунном мире, покреплённую конкретикой учения, фигурирующего под пунктом 2-а, а 3-е утверждение представляет собой фундаментальное учение о переселении души, главным образом, подразумевающее эволюционных характер развития души от простейших форм живого организма к более сложным.
Зацикливание 3-х тысячелетнего поступательного развития души от простого к сложному в животном мире не связано с «периодом очищения» (Г. Кеес приписывает его Платону), субъективизм истолкования чего и мог быть внесен кем-либо из греков, учитывая многообразие их интерпретаций учения египтян о переселении души совершенно иного характера. Это следует, например, из текста послания императора Юстиниана I к V Вселенскому Собору 553 года, дабы осудить учение «о предсуществовании душ» знаменитого учителя Церкви III века, пресвитера Оригена (185—254 г):
«Итак, Пифагор, Платон, Плотин и их последователи, как я сказал, единодушно признавая души бессмертными, говорили, что они существуют прежде тел и что есть отдельный мир душ, что падшие из них посылаются в тела, и при том так, что души ленивых в ослов, души грабителей в волков, души хитрецов в лисиц, души сластолюбцев в коней».
Эти представления древнегреческих философов, среди которых упоминается Платон, совершенно не свидетельствуют об их приверженности к учению о «3000-летнем периоде очищения», сообразно которому душа грешника начинала бы заново свой эволюционный путь, например, в виде амебы или иного простейшего организма, вследствие чего ей заново потребовалось бы пройти эволюционный путь развития аж в 3-и тысячи лет. Это ж как надо «накосячить» при жизни, гипотетически, чтобы в следующей реинкарнации возродиться к жизни в теле амебы, у которой совершенно не будет никакого осознания того, что в прежней жизни она была человеком, в той же мере в какой и у подавляющего большинства людей отсутствует память о своей предыдущей реинкарнации.
Прямой смысл слов Геродота: «Это круговращение продолжается три тысячи лет» не подразумевает под собой какой-либо «период очищения», поскольку эта интерпретация «круговращения» является не более чем одной из множества иных частных трактовок этого учения.
Фундаментальное учение египтян, подразумевавшее под собой эволюционных характер развития души от простого к сложному в животном мире, дополнено концепцией циклического характера процесса переселения души – «Это круговращение продолжается …», которая (концепция), потенциально, содержит в себе идею малых циклов перерождений на разных участках цепи эволюционного развития души. Эти малые циклы подразумевают под собой механизм как поступательного эволюционного развития, так и регрессивного, возвратного, как один из вариантов – на, условно, предшествующую ступень развития, например, как это представляли себе, упомянутые в послания императора Юстиниана I, «Пифагор, Платон, Плотин и их последователи»:
«падшие из них посылаются в тела, и при том так, что души ленивых в ослов, души грабителей в волков, души хитрецов в лисиц, души сластолюбцев в коней».
Таким образом, опровергая принадлежность египтянам учения о «3000-летнем периоде очищения», делая акцент на «очищении», и приписывая его греческим философам, Г. Кеес, возможно, и не ошибался, тем не менее из этого гипотетического факта, чьей-либо частной интерпретации конкретики слов Геродота: «Это круговращение продолжается три тысячи лет», совершенно не следует в целом опровержение принадлежности египтянам всех трех учений, упомянутых Геродотом, каждое из которых имеет самостоятельную ценность в контексте доктрины бессмертия человеческой души.
Абсурдная ситуация возникает: Г. Кеес, опровергая принадлежность египтянам одного из частных случает интерпретации утверждения Геродота под номером 3 – «Это круговращение продолжается три тысячи лет», в котором нет и намеков на его смысловую связь с «периодом очищения», пытается под этим ничтожнейшим предлогом опровергнуть в целом все три вполне самодостаточных утверждения Геродота о приоритете египтян в создании учений о бессмертии человеческой души в череде её перевоплощений в подлунном мире.
Так что остается открытым вопрос: какими соображениями руководствовался Г. Кеес, заявляя о том, что упоминаемые Геродотом учения о переселение души были чужды египетским воззрениям? Этот вопрос имеет два взаимосвязанных между собой варианта ответа, приоритетным из которых является заинтересованность единомышленников Г. Кееса в продвижении апологетики религии Осириса в египтологии, а о втором варианте речь пойдет отдельно.
В свете столь абсурдной аргументации Г. Кееса, следует иметь в виду, что древнегреческие философы не подвергали сомнению свидетельство Геродота, что, как это нестранно, казалось бы, признает(?) и сам Г. Кеес, в подтверждение чему(?) приводит в своей книге следующие пояснения:
«Позднее всем названным философам (Пифагор, Эмпедокл и Платон) их соотечественниками приписывается подверженность египетскому влиянию, и лишь в отдельных случаях среди тех, кто учил о бессмертии, приводятся халдеи и индийские маги (Паве. 1,32,4). И у греческих авторов, и у христианских писателей формулируется идея о том, что греческое учение о переселении души и ее перевоплощениях, опять же со ссылкой на Пифагора и Платона, было заимствовано у египтян». (2)
Перефразируем эту цитату, дабы понятнее стал её смысл:
«Соотечественники» «всех названных философов», «позднее», «приписывают им подверженность египетскому влиянию», вполне обоснованно – «со ссылкой на Пифагора и Платона», что относится и к греческим авторам и христианским писателям, у которых на том же основании «формируется идея о том, что греческое учение о переселении души и ее перевоплощениях … было заимствовано у египтян».
Этот пример внутренней противоречивости аргументации Г. Кееса свидетельствует в пользу достоверности утверждения Геродота как в части приоритета египтян…, так и в части заимствования их учений древними греками, эллинами.
Г. Кеес продолжает:
«Так, Евсевий в своем сочинении «О богоявлении» утверждает: «под влиянием египтян он (Платон) говорит, что, по его мнению, она (душа) меняет много разных тел, и тела людей сливаются с природой вещей». (2)
Так что основанием для «приписывания» «всем названным философам» «подверженности египетскому влиянию» являются свидетельства из первоисточника – со слов древнегреческих философов, не подвергавших сомнению это свидетельство Геродота.
Платон несколько лет жил в Гелиополе, приобщаясь к тайнам научных и философских познаний гелиопольских жрецов, о чем, в частности, поведал греко-римский античный историк, географ и философ, Страбон (ок. 64/63 г. до н. э. – ок. 23/24 г. н. э.), лично посетивший Гелиополь:
«Из античных авторов лишь географ Страбон лично посетил Гелиополь и оставил заметку о нем:
«В Гелиополе я видел большие дома, в которых жили жрецы, ибо в древнее время, по рассказам, этот город как раз был кварталом жрецов, которые занимались философией и астрономией; теперь же это объединение перестало существовать и его занятия прекратились. …
Однако в Гелиополе нам показывали дома жрецов и школы Платона и Евдокса; Евдокс прибыл туда вместе с Платоном, и они оба, по словам некоторых писателей, провели 13 лет с жрецами». Коростовцев М.А. (3)
Ещё одна цитата уже из книги французского египтолога Г. Масперо, «Древняя история народов Востока» (1895), подтверждающая общеизвестные факты:
«Греки рассказывают, что Солон, Пифагор, Платон, Евдоксий жили здесь (в Гелиополе) по несколько лет, изучая египетскую науку и философию». (4)
Далее Г. Кеес приводит дополнительную аргументацию:
«А Эней из Газы в своем трактате «Феофраст, или О бессмертии души» говорит:
«египтяне верят, что одна и та же душа может принимать форму человека, коровы, собаки, птицы или рыбы. Если она пребывает в образе наземного животного, муравья ли, верблюда ли, то затем обращается рыбой, например акулой или анчоусом в море, а потом, приняв птичий облик, например галки или соловья, она взлетает в воздух, всегда представляясь иным животным. Наконец, пройдя через смену всех (животных форм), она возвращается в ту форму, из которой появилась первоначально».
Аполлон и его сын Платон имели такую же точку зрения.
Очевидно, здесь выражен, в сущности, тот же самый взгляд на египетское учение о переселении душ, что и у Геродота». (2)
Древнегреческий философ Феофраст или Теофраст (ок. 370 – 288/285 до н. э.) учился в Афинах у Платона, а затем у Аристотеля. И памятуя о том, что Платон провел несколько лет в Гелиополе, как и большинство из его великих древнегреческих предшественников, посещавших Египет с целью приобщения к таинствам науки и философии египетской цивилизации (4), отмеченный Г. Кеесом факт лишний раз и подтверждает слова Геродота о заимствовании эллинами учений египтян о переселении души.
Поэтому не совсем понятно, что подразумевал Г. Кеес, приводя эти аргументы в главе Введение своей книге, поскольку их смысл противоречит его крайне субъективному утверждению, якобы подрывающему доверие у свидетельству Геродота о приоритете египтян в создании учений о переселении души – дескать, «эти учения на самом деле были чуждыми египетским представлениям».
Если что-то и дискредитирует отмеченная выше внутренняя противоречивость аргументации Г. Кееса, так она дискредитирует, в первую очередь, домыслы апологетов веры в вечную загробную жизнь от египтологии, настаивающих на том, что вера в переселение души в подлунном мире «была чужда египетским воззрениям (представлениям)».
Этот пример позволяет констатировать далеко неочевидный факт заинтересованности всех академических ученых, посвятивших свою научную деятельность изучению египетской религии, в продвижении апологетики веры в вечную загробную жизнь в египтологии. В частности, и в первую очередь, это относится к М.А. Коростовцеву, который не столь явно выражал свою конфронтацию с единомышленниками Г. Кееса, например, выражая формальную солидарность с мнением Г. Кееса: «По этому поводу Х. Кеес вполне резонно замечает:…» Тем не менее он зачастую вольно или невольно дискредитировал основы этой апологетики, что в полной мере относится к приведенному в его книги столь абсурдному замечанию Г. Кееса: «Геродот явно имеет в виду … более поздние учения … Платона»
№2
Это, пожалуй, очередной пример использования М.А. Коростовцевым подобной «весьма лукавой» тактики, осмысление которой явно не входит в число интеллектуальных достоинств представителей академической науки (истории), поскольку за внешней формой одобрения аргументации Г. Кееса, по сути, скрывается её опровержение.
В продолжении общения с L. G. все также по поводу комментария Г. Кееса к известной цитате Геродота, и поскольку мной было высказано глубочайшее уважение к М.А. Коростовцеву, столь незатейливо продемонстрировавшего абсурдность аргументации Г. Кееса, мне указали на факт неоспоримой(!), с точки зрения академических историков, поддержки М.А. Коростовцевым аргументации Г. Кееса, в подтверждение чему была приведена очередная цитата из его книги с комментариями L. G.:
«И видимо именно поэтому, прямо и без оговорок согласившись с Кеесом ("По этому поводу Х. Кеес вполне резонно замечает"), Коростовцев затем сам добавил разъяснение, в чём именно заблуждались греки насчёт египетских представлений:
«Грекам, несомненно, было кое-что известно о содержании некоторых глав «Книги мертвых» — о превращении души в золотого и божественного кобчика, в феникса, журавля, овна, ласточку, змею, крокодила, т.е. в тех животных, которые в плане тотемизма мыслились египтянами как могучие божества, способные устоять перед опасностями загробного мира. Превращение в них было для души средством оградить себя от этих опасностей, т.е. обеспечить себе бессмертие.
К тому же ба мыслилось как птица, которой был открыт доступ к богам на небо. Но все это осмысливалось греками по-своему, с трехтысячелетним очистительным для души циклом.
По египетским представлениям, ба вольно было летать куда угодно и вовсе не обязано было проходить через разные превращения. Желание умершего превратиться в то или иное божественное животное диктовалось исключительно стремлением обеспечить себе вечную жизнь в потустороннем мире безотносительно к мыслившейся греческими философами «очистительной» процедуре». (3)
Это – уже не Кеес, а текст самого Коростовцева о превратном перетолковании греческими философами египетских представлений». (L. G.)
Общаясь с представителями академической науки, истории, на форумах, мне уже не раз приходилось убеждаться в том, что они, цитируя тот или иной текст, зачастую совершенно не понимают его смысл, в частности, как это и было с цитатой из книги М.А. Коростовцева: «По этому поводу Х. Кеес вполне резонно замечает: …»
Поэтому меня не удивил и ускользнувший от L. G. смысл текста приведенной им очередной цитаты М.А. Коростовцева, поскольку из её текста совершенно не следует, что он выражает свое искреннее согласие с Г. Кеесом, если осмысленно проанализировать аргументацию М.А. Коростовцева.
Давайте сравним два подхода к интерпретации бессмертия души, приведенные М.А. Коростовцевым в его книге:
первый – якобы в поддержку Г. Кееса, процитированный L. G. с его комментариями, включая замечание Г. Кееса: «Факты здесь отмечены правильно…»;
второй – непосредственно фигурирующий у Геродота:
Геродот (II, 123) писал: «Египтяне также первыми стали учить о бессмертии человеческой души. Когда умирает тело, душа переходит в другое существо, как раз рождающееся в тот момент.
Пройдя через [тела] всех земных и морских животных и птиц, она снова вселяется в тело новорожденного ребенка. Это круговращение продолжается три тысячи лет. Учение это заимствовали некоторые эллины, как в древнее время, так и недавно». (3)
Г. Кеес настаивает на том, что вера египтян в вечную загробную жизнь подразумевала под собой – «способности (души) принимать разные образы» в загробном мире, что и представляло собой «приоритет египетского содержания»:
«По этому поводу Х. Кеес вполне резонно замечает: «Факты здесь отмечены правильно: бессмертие души и представление о ее способности принимать разные образы. Но философское оформление этой идеи, система — греческая, несмотря на приоритет египетского содержания». (3)
Во втором варианте перевода этого фрагмента текста книги Г. Кееса («Журнал Нева». СПб. 2005), «перевоплощение души» в загробном мире фигурирует в множественном числе – «о ее перевоплощениях»:
«Заметим: постулаты, т.е. бессмертие души и представление о ее перевоплощениях, очерчены верно». (2)
Если осмысленно подойти к сути того, что фигурирует в тексте «самого Коростовцева о превратном перетолковании греческими философами египетских представлений» (L. G.), то можно отметить следующие моменты:
Во-первых, М.А. Коростовцев, описывая представления египтян о превращении души в загробном мире, дабы ей избежать опасностей этого мира, фактически, указывает на необходимость всего лишь однократного превращении души либо «в золотого и божественного кобчика», либо «в феникса», либо «журавля», либо «овна», либо «ласточку», либо «змею», либо «крокодила» (т.е. в тех животных, которые в плане тотемизма мыслились египтянами как могучие божества»), в зависимости от того, какое из этих животных было обожествлено («в плане тотемизма») в том или ином номе, жители которого и «отдавали ему своё предпочтение», «следуя наставлениям» жреческой коллегии религиозного центра своего нома:
«Культ животных, как и тотемизм, из которого он вырос, был в значительной мере религиозным выражением номового сепаратизма. … он (номовый сепаратизм) существовал на протяжении всей истории Египта». (3)
«Жрецы каждого нома были независимы и не подчинялись никакой вышестоящей инстанции. … В каждом номе существовала своя религия, которая развивалась независимо от верований, бытующих по соседству». Видеман (5)
Учитывая приведенную выше аргументацию, смысл несколько утрированного утверждения М.А. Коростовцева:
«желание умершего превратиться в то или иное божественное животное диктовалось исключительно стремлением обеспечить себе вечную жизнь в потустороннем мире»,
некорректен, поскольку «желание умершего превратиться в то или иное божественное животное диктовалось», главным образом, религиозными приоритетами жрецов его нома в обожествлении того или иного животного. Поэтому, формально, у жителя нома не было права выбора того или иного животного по своему усмотрению.
Во-вторых, М.А. Коростовцев пишет «о превращении души в золотого и божественного кобчика и т.д.», совершенно не обозначая исходное образ душ – её внешний облик, что вызывает закономерный вопрос:
каков исходный образ души, для которого существует необходимость превращаться в загробном мире (либо) в «золотого и божественного кобчика, (либо) в феникса, (либо) журавля, (либо) овна, (либо) ласточку, (либо) змею, (либо) крокодила»?
В-третьих, а этот вариант предполагает и ответ на приведенный выше вопрос:
если душа мыслилась египтянам в образе птицы Ба, то как пишет М.А. Коростовцев: «По египетским представлениям, ба вольно было летать куда угодно и вовсе не обязано было проходить через разные превращения».
Следовательно, при любой интерпретации представлений «египтян» в контексте их веры в вечную загробную жизнь, из приведенного выше текста цитаты М. А. Коростовцева, в этих представлениях присутствует описание необходимости лишь однократного превращения души в загробном мире (и это без указания исходного образа души!), а не о какой-либо множественности её превращений, что следует со слов Г. Кееса – о способности души «принимать разные образы»(3), подразумевая «представление о ее перевоплощениях»(2) – в множественном числе.
Как видим, из «разъяснения» М.А. Коростовцева, которое привел L. G., подразумевая его безоговорочное согласие с Г. Кеесом, следует нечто совершенно противоположное – разоблачение грубейшей ошибки Г. Кееса, приписавшего душе способности «принимать разные образы» в череде «перевоплощений» в загробном мире, что и опровергается аргументацией М.А. Коростовцева.
И это опровержение касается возможности души совершать лишь однократное превращение: «(либо) в «золотого и божественного кобчика, (либо) в феникса, (либо) журавля, (либо) овна, (либо) ласточку, (либо) змею, (либо) крокодила», без упоминания об исходном образе души, для которой и требовалось это однократное превращение.
А в случае отождествления души с образом птицы Ба, она «вовсе не обязана была проходить через разные превращения» в загробном мире, констатация чего М.А. Коростовцевым воспринимается как откровенное его издевательство над измышлениями Г. Кееса о способности души «принимать разные образы» в череде «перевоплощений» в загробном мире.
Обще египетские представления о душе в образе птицы Ба сформировались ко временам Древнего царства в результате вполне закономерной консолидации деятельности жрецов религии Осириса, присутствовавших после объединения Египта в каждом из номовых религиозных центров.
* * * * *
Следовало бы иметь в виду апологетам религии Осириса от египтологии, что египетская религия (религии Древнего Египта), фигурирующая в представлениях египтологов, представляла собой сочетание, фактически, двух религий, принципиально отличавшихся по своему предназначению в египетском обществе:
1) Религии Осириса – религии жрецов заупокойного культа с их единым богом Осирисом, покровителем вечной загробной жизни. Она была ориентирована на формирование у своих адептов представлений об их посмертной участи в вечности загробной жизни.
«Центральным религиозным событием Среднего царства было распространение культа Осириса (можно даже сказать, религии Осириса) в египетском обществе». Ян Ассман (6)
2) Условно, конгломерата религий жрецов других многочисленных номовых и столичных богов, которые (боги) были «призваны содействовать» процветанию как повседневной жизни египтян во всех её аспектах, так и приумножению мирских благ правящей династии и в целом державы Древнего Египта.
Жречество религии Осириса, начиная с III тысячелетии до н.э., т.е. после объединения Египта в единое государство под властью царя Верхнего Египта, имело своих представителей в каждом из номовых и столичных религиозных центрах, таким образом смягчая проявление крайностей религиозного сепаратизма номов. Поэтому религия Осириса была своеобразным стержнем религии Древнего Египта, условно, объединяя вокруг себя конгломерат религий многообразия номовых и столичных богов, предназначение которых было актуально в контексте всех аспектов повседневной жизни египтян в подлунном мире.
Правомерность и логическая обоснованность подобного восприятия египетской религии (религии Древнего Египта), в целом, представленной совокупностью двух принципиально различных по своему предназначению в египетском обществе религиями, умышленно игнорируется представителями академической науки в египтологии, чему впоследствии мы найдем подтверждение.
 Рис 1. Ба.
Рис 1. Ба.
Учитывая такую особенность религии Древнего Египта, изъяны номового религиозного сепаратизма совершенно не были характерны для жрецов религии Осириса, присутствовавших во всех номовых и столичных религиозных центрах. Поэтому и нет ничего удивительного в том, что представления о загробных сущностях человека, ранее сформировавшиеся в каждом(?) из номов – на примере перечисленных выше животных («золотого и божественного кобчика, феникса, журавля» и т.д.), были со временем унифицированы в обще египетском масштабе, чему и является свидетельством представление о душе в образе птицы Ба, которая «мыслилась как нечто существующее только после смерти человека и изображалось как птица с человеческой головой» (3).
Во времена Древнего царства душа в образе птицы Ба была прерогативой лишь фараонов, а во времена Среднего царства стала достоянием и представителей знати:
«О ба обыкновенных людей в последнем смысле слова древнейшие тексты хранят молчание – в «Текстах пирамид» упоминается только ба умершего фараона.
В «Текстах саркофагов» (Среднее царство) говорится о ба погребенных в этих саркофагах представителей знати (эпоха после падения Древнего царства, когда началась так называемая демократизация заупокойного культа)». (3)
* * * * *
Таким образом, апологетика религии Осириса в египтологии порождает крайне нелепейшую для академической науки ситуацию, требующую ответов на вполне закономерные вопросы:
1. В чем состоит «приоритет египетского содержания» в части «способности (души) принимать разные образы» (3), включая и «представление о ее перевоплощениях» (2) в загробном мире (Г. Кеес), если выясняется (М.А. Коростовцева), что душа, гипотетически, имела необходимость лишь однократного превращения в загробном мире? И это при отсутствии представлений об исходном её облике или образе, для которого и было востребовано это единственное превращение.
2. Каким образом, из представлений египтян о душе в образе птицы Ба, которая и «вовсе не обязана была проходить через разные превращения» в загробном мире – в качестве «приоритета египетского содержания» (Г. Кеес), древние греки могли прийти к диаметрально противоположным заключениям о перевоплощении души в подлунном мире, которая переходя из тела умершего человека в тело вновь родившегося, «меняет много разных тел»?
3. И уж тем более, учитывая эти обстоятельства, каким образом возникло якобы греческое (по мнению Г. Кеес) учение о трех тысячелетнем цикле переселения души в тела разных живых существ, которое Геродот приписывает египтянам, а греки его не опровергали?
4. Какая связь между представления египтян о душе в образе птицы Ба, в плане отсутствия у ней необходимости «проходить через разные превращения» в загробном мире, и якобы греческими (Г. Кеес) учениями о переселении души, которые Геродот приписывает египтянам, а древнегреческие философы, посещавшие Древний Египет как до, так и после него, не оспаривали это свидетельство Геродота?
Вразумительных ответов на эти вопросы у представителей академической науки попросту нет, в чем мне и представилась возможность убедиться на форуме профессиональных историков, отстаивающих приоритеты академической науки на просторах Интернета.
Как можно было убедиться, М.А. Коростовцев (вольно или невольно) в очередной раз продемонстрировал абсурдность усердия Г. Кееса по продвижению апологетики веры в вечную загробную жизнь в египтологии, занимая в вопросах религиозных приоритетов разных слоев населения Древнего Египта более взвешенную позицию, чему в дальнейшем мы найдем подтверждение.
И более того, завершая экскурс в историю современной науки в Главе «Абидос, Осирис и Исида», перечислив в ней ряд ошибок Г. Кееса, далее он предостерегает от них читателей своей книги следующим образом:
«Этот краткий экскурс в историю современной науки был необходим, чтобы оградить неискушенного читателя от упомянутых ошибок X. Кееса при чтении его, в общем, очень ценных и важных трудов». (3)
М.А. Коростовцев перечислил в своей книге далеко не все ошибки Г. Кееса, дополнительно своими витиеватыми комментариями изобличая его грубые ошибки, осмысление которых явно не входит в число добродетелей апологетов религии Осириса от египтологии и академической науки.
Объективности ради, следует уточнить, что ошибки Г. Кееса, отмеченные М.А. Коростовцевым, как и их «завуалированные разногласия» по отдельным вопросам, никоем образом не умаляет значимость деятельности Г. Кееса в качестве переводчика древнеегипетских Текстов: «Пирамид», «Саркофагов», «Книги мертвых» и др., чем и была обусловлена, «в общем», высокая оценка и важность его научных трудов.
* * * * *
Многочисленные разногласия между египтологами, в контексте изучения столь сложного предмета как египетская религия, обусловлены, главным образом, субъективизмом их интерпретации тех или иных аспектов религиозных представлений древних египтян, находящихся по объективным причинам вне сферы профессиональной компетенции ученых, например Г. Кееса в качестве переводчика египетских текстов, в чем он, безусловно, преуспел.
Довольно часто ученые, добившиеся выдающихся результатов в своей узкоспециализированной сфере научной деятельности, выдвигают гипотезы, обоснование которых выходит за рамки их профессиональных компетенций, поэтому им приходится довольствоваться предположениями, что впоследствии и служит предметом для научных дискуссий. В нашем случае это касается тематики тех или иных аспектов египетской религии, которая как пару веков назад, так и по сей день представляет для науки достаточно сложным предметом для изучения:
«Открытие новых данных для изучения египетской религии, рост материала совершается с поразительною быстротой. Это обстоятельство не дает, впрочем, нам возможности начертать полную и точную картину древнеегипетской религии.
«Наоборот, замечает Wiedemann в своей Religion der alten Acgypter, «чем больше добывается материала, чем основательнее он разрабатывается, тем темнее становятся начала (религии Древнего Египта), теории одна за другою оказываются ошибочными, и на их место не появляется ни одной очевидной истины».
Исследование египетского вероучения и ритуала—задача быть может более трудная, чем изучение какой бы то ни было другой религии». (1)
* * * * *
В конечном итоге, откровенная предвзятость и противоречивость аргументации Г. Кееса, а порой и его грубые ошибки, в стремлении подорвать доверие к свидетельствам Геродота, являются по сути своей исчерпывающим подтверждением их достоверности, не подвергавшейся сомнению древнегреческими философами ни в части приоритета египтян…, ни в части заимствования эллинами египетских учений о переселении души.
Эти оба примера (№1, 2) несостоятельности аргументации Г. Кееса в его стремлении подорвать доверие к свидетельству Геродота о приоритете египтян…, позволят убедиться и в том, к каким абсурдным последствиям влечет внедрение апологетики религии Осириса в египтологию и академическую науку, о чем и пойдет речь далее.
Генезис концепции реинкарнации по Г. Кеесу
Категорическое отрицание апологетами религии Осириса от египтологии присутствия учений о переселении души в религиозной культуре населения долины Нила предоставляет возможность оценить чудовищные последствия этой «стратегии научного поиска» в египтологии не столько для академической науки, сколько для Науки, в целом.
Г. Кеес и его единомышленники настаивают на том, что Геродот ошибочно приписал учения о переселении души египтянам, поскольку на самом деле эти учения принадлежали грекам, что обосновывается банальнейшим образом – результатами неверного истолкования греками египетских представлений о «бессмертии души и представлениях о ее способности принимать разные образы» в загробном мире в качестве «приоритета египетского содержания», естественно, в контексте веры в вечную загробную жизнь якобы всех поголовно египтян:
«По этому поводу Х. Кеес вполне резонно замечает: «Факты здесь отмечены правильно: бессмертие души и представление о ее способности принимать разные образы. Но философское оформление этой идеи, система — греческая, несмотря на приоритет египетского содержания». (3)
И поскольку греки ошибочно приписали приоритет в создании учений о переселении души египтянам, как утверждает Г. Кеес, из-за неверного истолкования ими «египетских представлений», то из этой аргументации Г. Кееса следует вполне закономерный вывод о приоритете уже греков в создании учений о переселении души, дескать, «философское оформление этой идеи, система — греческая».
В свою очередь, возникшие таким образом в среде греческих философов учения о переселении души априори должны были иметь в качестве своего обоснования совершенно неизвестную ранее парадигму религиозного мышления – веру в бессмертие души в череде её перевоплощений в подлунном мире, т.е. веру в переселение души, коль скоро её присутствие в религиозной культуре населения нильской долины категорически отрицается Г. Кеесом и его единомышленниками.
Получается, что «с легкой руки» Г. Кееса причина происхождения (генезис) парадигмы религиозного мышления, представляющей собой веру в бессмертие души в череде её перевоплощений в подлунном мире (веру в переселение души), самым банальным образом сводится им к НЕДОРАЗУМЕНИЮ(!), произошедшему, по мнению Г. Кееса, вследствие того, что древнегреческие философы якобы неверно поняли и истолковали «египетские представления» о вере в вечную загробную жизнь. Это следует и из аргументации представителя академической науки, L. G., как со ссылкой на авторитет М.А. Коростовцева – а), так и выражая собственное мнение – б):
а) «Это – уже не Кеес, а текст самого Коростовцева о превратном перетолковании греческими философами египетских представлений». (L. G.)
б) «греки (далеко не только Геродот) приписывали египтянам учение о перерождениях души, частью ошибочно понимая и перетолковывая египетские концепции о загробной жизни». (L. G.)
Г. Кеес и его единомышленники, фактически, уличили древнегреческих философов в крайней степени несообразительности, а то и вовсе в бестолковости, в результате чего они и совершили столь «роковую ошибку». Тем не менее эта «ошибка» породила к жизни (генезис) ранее неведомую миру парадигму религиозного мышления – веру в переселение души в подлунном мире, которая и лежит в основе учений о переселении души. Так как, с одной стороны, древние греки приписывали приоритет в её создании египтянам, а с другой стороны, её присутствие в религиозной культуре египетского народа категорически отрицается единомышленниками Г. Кееса.
Апологетов религии Осириса от египтологии и академической науки (истории) почему-то не смущают достоверные свидетельства о том, что древнегреческие философы, которых Г. Кеес и его единомышленники уличали в бестолковости, по нескольку лет жили, в частности, в Гелиополе, постигая таинства египетской науки и философии, в чем преуспели, впоследствии основав собственные школы философии, заложив основу для развитию европейской науки и философии.
И кто бы мог подумать, что генезис веры в реинкарнацию и переселение души, имеющей универсальное значение для многих мировых религий, стал результатом НЕДОРАЗУМЕНИЯ, выраженного в неспособности древнегреческих философов правильно истолковать «приоритеты египетского содержания» учения о бессмертии души в вечности загробной жизни. Этот вывод и является вполне закономерным следствием категорического неприятия апологетами религии Осириса свидетельства Геродота о приоритете египтян в создании учений о бессмертии человеческой души в череде её перевоплощений в подлунном мире.
Такое нелепейшее обоснование происхождения (генезиса) одной из двух парадигм религиозного мышления, присутствующей в доктрине бессмертия человеческой души, пожалуй, не делает чести даже академической науке, а для Науки в её естественнонаучном смысле слова представляется вещью недопустимой.
Но этой нелепостью апологетика религии Осириса не ограничивается, настаивая на том, что вера в вечную загробную жизнь была исконной верой всего населения нильской долины, следствием чего становится принципиальная невозможность обосновать генезис веры в вечную загробную жизнь, т.е. невозможность обосновать причину происхождения этой парадигмы религиозного мышления, лежащей в основе религии Осириса.
И чем же довольствуется в итоге академическая наука и египтология в части происхождения (генезиса) доктрины бессмертия человеческой души, включающей в себя две парадигмы религиозного мышления:
– веру в бессмертие души в вечности загробной жизни;
– веру в бессмертие души в череде её перевоплощения в подлунном мире.
Генезис первой из них априори неизвестен, а генезис второй обосновывается банальным НЕДОРАЗУМЕНИЕМ.
Апологеты религии Осириса, уличая в бестолковости древнегреческих философов, признанных основателями европейской науки и философии, фактически, действуют по примеру апологетов Христианства тысячелетней давности, «ограничивших свободу философского мышления авторитетом Св. Писания и прочих богословских святоотеческих творений». Это явилось следствием постановления византийского императора, Алексея I Комнина (правление: 1081–1118гг), с целью недопустить распространения ересей древнегреческих философов. В частности, ересью была признана концепция переселения души, пользовавшаяся популярностью в школах философии Византийской империи, и одного из видных её сторонников, Иоанна Итала, предали анафеме и вынудили под угрозой физической расправы отказаться от учений о переселении души, а также и от порицания святых икон, в ереси чего он также был замечен.
Таким образом, теология (апологетика Христианства) превратилась в царицу наук в университетах средневековой Европы, обуздав философское мышление авторитетом Св. Писания, что тождественно признанию никчемности результатов деятельности древнегреческих философов, по всей видимости, «не способных понять по своему врожденному скудоумию» всего величия апологетики веры в вечную загробную жизнь.
Как видим, присутствует много общего между современной апологетикой религии Осириса в египтологии и апологетикой (теологией) Христианства минувших веков, в их крайне низкой оценке умственных способностей древнегреческих философов, тем не менее заложивших основы науки и философии европейской цивилизации.
Следовательно, деятельность апологетов религии Осириса в египтологии под патронажем академической науки не делает чести, в целом, науке и философии западной цивилизации.
Так что сделанное в работе «Тайна происхождения Индуизма» предположение о лоббировании интересов Церкви «апологетами религии Осириса» в египтологии не так уж далеко от истины:
«… Поэтому лоббирование интересов Церкви в египтологии было всегда приоритетным делом для слуг Господа, учитывая былое могущество Римско-католической церкви XVIII-XIX веков…»
«Эта неуклюжая попытка утаить от мировой общественности присутствие в религиозной жизни населения Древнего Египта альтернативной религии, не признававшей веры в вечную загробную жизнь, несомненно, отражает интересы Церкви, пытающейся через податливых на её влияние археологов (египтологов) внушить ложные представления о якобы доминировании в религиозном сознании всех поголовно египтян веры в вечную загробную жизнь».
На что последовала вполне ожидаемая гневная реакция представителей академической науки исторического форума:
«Вы обвиняете учёных в недобросовестности, глобальном умышленном сокрытии истины, делаете утверждения насчёт "лоббирования интересов Церкви в египтологии"». (L.G.)
Примеры №1 и №2 несостоятельности аргументации Г. Кееса и его единомышленников в их стремлении дискредитировать «Отца истории», Геродота, включая отмеченные выше закономерные следствия этой деятельности, и свидетельствуют не столько об их недобросовестности, сколько об умышленном сокрытии от мировой общественности приоритетной для народа нильской долины парадигмы религиозного мышления, альтернативной вере в вечную загробную жизнь, подтверждением чему и служит свидетельство Геродота.
Эти выводы являются следствием лишь первых двух примеров разоблачения несостоятельности апологетики религии Осириса в её стремлении подорвать доверие к свидетельствам «Отца истории», Геродота, о приоритете египтян...
Последующие примеры дополнительно подтвердят обоснованность «моих обвинений» в адрес, отнюдь, не ученых, а лишь апологетов религии Осириса от египтологии и академической науки, по всем пунктам (L.G.) их претензий ко мне.
№3
В качестве основы аргументации «опровержения свидетельства Геродота» в этом примере фигурируют «религиозные памятники Древнего Египта», ни в одном из которых «не могут быть указаны следы» верований египтян в переселение души, как об этом писал Е.Г. Кагаров в книге «Религия Древнего Египта» (1906г):
«Нам остается еще сказать несколько слов о том эсхатологическом учении, которое, с легкой руки Геродота, до последнего времени ошибочно связывали с Египтом. Мы имеем в виду учение о метемпсихозе (душе переселении), подобном орфическому или индийскому. Ни в одном религиозном памятнике древнего Египта не могут быть указаны следы подобного воззрения». Е.Г. Кагаров (1)
В связи с использованием подобного рода аргументации, возникает закономерный вопрос: каким же источникам информации из разряда «религиозных памятников древнего Египта» отдают свое предпочтение апологеты религии Осириса, к числу которых и принадлежать Г. Кеес и Е.Г. Кагаров?
Эти источники перечислены в упомянутых выше трудах каждого из них, в отдельной главе «Источники», и поскольку Е.Г. Кагаров излагает материал о религии Древнего Египта «на основании тех данных, которые были выдвинуты новейшей западноевропейской наукой» начала 20-го века, то уместней рассмотреть перечень источников, фигурирующий в книге Г. Кееса, тем более что этот перечень присутствует и в книге Е.Г. Кагарова, лишь с его комментариями, один из которых приведен ниже.
В этом перечне источников в качестве второстепенных из них присутствуют свидетельства древнегреческих авторов о приоритете египтян в создании учений о переселении души, которые признаны единомышленниками Г. Кееса априори недостоверными (кто бы сомневался):
«Сообщения Геродота во 2-ой и начале 3-ей книги его «9 Муз» зачастую не заслуживают доверия: греки любили сближать божества других народов со своими, увлекаясь иногда чисто внешней аналогией». Е.Г. Кагаров (1)
Итак, перечень Источников, фигурирующий в книге Г. Кееса «Заупокойные верования …»:
«I. Источники
Для начала несколько слов о главных источниках. Как уже отмечалось, их можно подразделить на археологические и литературные.
Возведение и оборудование гробницы, способ ее декоративного оформления, жертвоприношения, которые предполагалось передавать покойному — благодаря всем этим материальным свидетельствам заупокойного культа мы получаем представление о том, в чем нуждался мертвый в гробнице и в загробном царстве. Здесь помогают наблюдения над способом собственно захоронения, т. е. консервацией трупа, мумификацией и т. п., а также церемониалом, в процессе которого оно происходило.
Всего этого было бы достаточно для получения определенных представлений о заупокойных верованиях.
Но ведь существует еще и необычайно богатая религиозная литература. Все, что сохранилось от нее до наших дней, происходит большей частью из гробниц, т. е. и она тоже относилась, по преимуществу, к заупокойной сфере. Мертвому для существования в загробном мире передавали не только необходимые ему бытовые предметы, но и средства духовной поддержки. Для этой цели предназначались три весьма крупных по объему собрания текстов, где излагались основы египетских заупокойных верований».
Далее следует перечисление религиозной литературы:
1. «Тексты пирамид». Они наносились на стены подземных покоев и проходов к гробничной комнате в царских пирамидах, начиная с последнего царя V династии, Унаса (в греческой передаче — Оннос), а позже и цариц, в мемфисском некрополе близ Саккары.
2. «Тексты саркофагов». Наносились в основном на стенки деревянных саркофагов, начиная с переходного периода от Старого Царства к Среднему (VIII—XI династии), т. е. со времени царей, правивших в Гераклеополе (в Среднем Египте), до начала Нового Царства (XVII династия);
3. Просуществовавший более длительное время, но гораздо более поздний по времени сборник, известен под названием «Книга мертвых». Эти тексты передавались покойному в основном в записях на папирусе, реже записывались на стенах гробничных комнат. «Книга мертвых» существовала с начала XVIII династии до конца египетской культуры.
Эти три собрания, типично египетские в целом, называются «Книги», но не являются ни целостными, ни связными по содержанию произведениями. Это всего лишь сборники изречений, различающиеся и по объему, и по составу. …» (2)
Спрашивается: это ж каким образом в перечисленных выше источниках, которые отражают собой лишь парадигму религиозного мышления жрецов религии Осириса, могли оказаться следы воззрений египтян о вере в переселение души, совершенно чуждые для религии Осириса?
Невозможно в культовых сооружениях и религиозной литературе жрецов религии Осириса обнаружить следы верований, чуждых этому культу!
Получается, что эти весьма банальные по своей очевидности соображения, объясняющее факт отсутствия следов … (Е.Г. Кагаров), оказываются почему-то недоступны для своего осмысления апологетами религии Осириса от египтологии и академической науки.
И под этим нелепейшим предлогом единомышленники Г. Кееса умудряются ставить под сомнение свидетельство Геродота о вере египтян в переселение души? И они ещё причисляют себя к ученым?
Хотя этому курьезу есть свое рациональное объяснение:
Религиоведение, в сфере которого и трудятся апологеты религии Осириса от египтологии, представляя собой академическую науку, к науке в естественнонаучном её смысле прямого отношения не имеет. Поскольку предвзятость априори присуща апологетике любой из религий, а тем более, как в нашем случае, предвзятость апологетики одной из двух парадигм религиозного мышления – веры в вечную загробную жизнь, прекрасно себя зарекомендовала в истории человечества, посредством использования весьма специфических методов преследования своих идеологических врагов, придерживавшихся альтернативной парадигмы религиозного мышления.
Примером чему, в частности, служит апологетика ортодоксального Христианство, как ей и подобает, прославляющая истинность веры в вечную загробную жизнь в Царствии Небесном Господа, являя собой пример для подражания в египтологии апологетам религии Осириса, превозносящим достоинства веры в вечную загробную жизнь в религиозной культуре Древнего Египта, что и следует со слов Г. Кееса:
«И одно из самых выдающихся качеств египтян заключается в том, что этот народ не мог забыть «Тексты пирамид» в течение всей своей долгой истории». (2)
Апологетики Христианства и религии Осириса в египтологии имеют общие черты, поскольку в их основе лежит одна парадигма религиозного мышления – вера в вечную загробную жизнь. И более того, формирование ортодоксального Христианства происходило под патронажем высшего жречества религии Осириса – «из Египта воззвал Я Сына Моего» (Матф. 2: 15), передавшего в наследие религии ранних христиан большую часть своих наработок минувших трех тысячелетий, предварительно сделав выводы из причин увядания религии Осириса в египетском обществе в I тысячелетии до н.э., дабы церковный бизнес в будущем не повторил её ошибок.
Этим и объясняется такой весьма неординарное явление в истории мировых религий, как умиротворенная кончина религии Осириса, смиренно «почившая в бозе» без каких-либо признаков агонии и цепляния за жизнь, фактически, мирной кончиной дав жизнь своей «преемнице». В результате чего, жречество религии Осириса совершенно органично влилось в ряды пастырей религии ранних христиан, впоследствии активно участвую в формировании догматики ортодоксального Христианства, чему и является подтверждением ведущая роль александрийской школы теологии в её формировании – обе ереси IV и V веков родом из Александрии:
1) Арианская ересь IV века – патриархи Александрии Афанасий и Арий.
2) Монофизическая ересь V века.
«Не приходится сомневаться и в том, что в I в. н. э., когда в лоне церкви царил разброд, особенно сильно сказывалось влияние религиозного наследия древнего Египта». (3)
О способах внедрения в религиозное сознание населения Европы апологетики Христианства хорошо известно по результатам гонений, в частности, на приверженцев альтернативной парадигмы религиозного мышления. Тому примером является разрушение языческих святынь и храмов, начиная с возведения в IV веке Христианства в ранг государственной религии Римской империи, посредством чего были, в буквальном смысле, стерты с лица земли цивилизационные достижения Древнего Египта в сфере науки и философии. Их следы сохранились, в частности, в трудах древнегреческих философов, которые постигла участь забвения для европейской цивилизации на целое тысячелетие «Темного средневековья», вплоть до эпохи Возрождения.
«В 381 г., при Феодосии, в Константинополе был созван Второй вселенский собор, объявивший христианство в его никейской форме государственной религией всей Римской империи, и началось повсеместное искоренение остатков язычества. В 385 (391) г. н.э. в Александрии был разгромлен храм Сераписа и сожжена часть александрийской библиотеки. Во всех этих делах чувствовалась жесткая рука александрийского епископа Кирилла, христианского догматика». (3)
Разрушение храма Сераписа и сожжение хранившихся в нем «фондов» александрийской библиотеки было лишь одним из эпизодов уничтожения языческих святынь и храмов по всему Египту. Поэтому нет ничего удивительного в том, что современные апологеты веры в вечную загробную жизнь от египтологии «не могут обнаружить» свидетельства веры египтян в переселение души и их учений. Ибо их предшественники – апологеты веры в вечную загробную жизнь в Христианстве, начиная с IV века, занимались целенаправленным и методичным уничтожением языческих святынь и храмов, уничтожая таким образом и свидетельства веры египтян в переселение души.
Принимая во внимание приведенные выше аргументы, ещё большой вопрос: заинтересованы ли современные апологеты религии Осириса от египтологии в обнаружении этих свидетельств? Учитывая их предвзятость по отношению к свидетельствам из древнегреческих источников о приоритете египтян в создании учений о переселении души: свидетельств Геродота и многих выдающихся философов, живших как до, так и после него.
Следовательно, излишне питать надежды на то, что апологетика религии Осириса, укоренившаяся в египтологии и академической науки, снизойдет до опровержения самой себя, допустив присутствие в религиозной культуре египетской цивилизации существования своей альтернативы. Для неё характерно не столько превозносить достоинства веры в вечную загробную жизнь, например, как это имеет место в апологетике Христианства, сколько в дополнение к этому присуще категорическое отрицание веры египтян в переселение души, чем она и отличается – своей бескомпромиссностью в этом вопросе.
Поэтому и способы внедрения в академическую сферу египтологии апологетики веры египтян в вечную загробную жизнь совершенно бескомпромиссны в их предвзятости отрицания существования в религиозной культуре населения долины Нила альтернативной парадигмы религиозного мышления. Эта бескомпромиссность порождает свои весьма негативные для египтологии последствия, о чем и пойдет речь далее.
Ущербность представлений об истории египетской религии
Несостоятельность и способа №3 опровержения свидетельств Геродота, обусловленная вполне очевидной предвзятостью в выборе Источников…, имеет свои негативные последствия для египтологии, смысл которых сводится к тому, что история египетской религии «берет свое начало», как это ни парадоксально, лишь с времен (Раннего и) Древнего царств, сообразно тем археологическим и религиозно-литературным источникам, которые признаны достоверными единомышленниками Г. Кееса.
«Тіеlе был первым и единственным ученым, отважившимся написать связную и довольно подробную историю египетской религии. … О.Р. Тіеlе (1902) делит всю историю египетской религии на 4 периода:
1) мемфисский пер. (древнее царство);
2) первый фиванский пер. (среднее царство);
3) второй фиванский (новое царство) и
4) саитский период». (1)
Этот способ деления истории египетской религии, до сих пор сохранивший свою актуальность, соответствует археологическим и литературным источникам:
1) мемфисскому периоду (Древнее царство) соответствуют «Тексты пирамид» (конец V династии – 24 век до н.э.);
2) первому фиванскому периоду (Среднее царство) – «Тексты саркофагов»;
3) второму фиванскому периоду (Новое царство) – «Книга мертвых».
Отмеченное выше соответствие трех первых периодов в развитии египетской религии (О.Р. Тіеlе) трем источникам «религиозной литературы» из перечня Г. Кееса, позволяет прийти к вполне закономерному выводу о том, что апологеты религии Осириса ведут речь не столько об истории египетской религии в целом, сколько, преимущественно, об истории лишь одной из многочисленных религий Древнего Египта, а именно об истории религии Осириса с её верой в вечную загробную жизнь, чему и соответствуют «Тексты пирамид», «Тексты саркофагов» и «Книга мертвых».
«Центральным религиозным событием Среднего царства было распространение культа Осириса (можно даже сказать, религии Осириса) в египетском обществе». Ян Ассман (6)
Следовательно, формально, они отождествляют египетскую религию, в целом, лишь с религией, основанной на вере в вечную загробную жизнь – религией Осириса, первый или исходный период которой соотносится с эпохой (Раннего и) Древнего царства, на чем следует отдельно акцентировать внимание в плане выяснения временного интервала зарождения и становления религии (Осириса), основанной на вере в вечную загробную жизнь.
Подобные представления об истории египетской религии, первый период которой соотносится с эпохой Древнего царства, производит нелепейшее впечатление, чего попросту опять же не могут понять единомышленники Г. Кееса. Поскольку Древнее царство, фигурирующее в качестве «первого периода в истории египетский религии» О.Р. Тіеlе, представляло собой не какой-то исходный этап в поступательном развитии египетской цивилизации, скажем, уровня времен образования первых номов в долине Нила, который можно было бы соотнести, грубо, с серединой-концом V тысячелетия до н.э. (45–40 столетие до н.э.), а являло собой могущественную державу с централизованной властью фараонов, становление которой произошло на рубеже IV-III тысячелетия до н.э., а это 31-30 век до н.э. Раннее и Древнее царства просуществовали в этом роли более шести веков ко временам появления первых «Текстов пирами» в усыпальнице последнего фараона V династии, Унаса, в 24 веке до н.э.
Формально, апологетика религии Осириса в египтологии имеет документально подтвержденные свидетельства веры египтян в вечную загробную жизнь, соответствующие археологическим и религиозно-литературным источникам (Г. Кееса), начиная лишь с времен Древнего царства, включая сведения о ещё несовершенных способах мумифицирования тел представителей сановной знати в некрополях царей I и II династии. Единичные же свидетельства ещё более несовершенных способов мумификации тел усопших, относящиеся к последней трети IV тысячелетия до н.э., сути дела не меняют.
Отмеченная в египтологии динамика в развитии религиозных представлений «египтян» о вечной загробной жизни, соответствующая первым трем периодам «истории египетской религии О.Р. Тіеlе», во-первых, не охватывает собой предшествовавший период развития цивилизации нильской долины и её предысторию верований протяженностью 10-15 веков – проторелигию додинастического Египта, а во-вторых, противоречит апологетике религии Осириса от египтологии в том, что вера в вечную загробную жизнь была исконной верой египтян, т.е. существовала испокон времен, условно, это середина-конец V тысячелетия до н.э.
Если бы Г. Кеес был прав, проецируя в глубокое прошлое египетской цивилизации известные ему заупокойные верования «египтян» времен Древнего царства, то первый «период истории египетской религии по О.Р. Тіеlе», характеризующийся усовершенствованием способов мумифицирования тел усопших, от весьма примитивных способов времен I и II династии (условно 31-28 века до н.э.) до уровня мумификации, скажем, начала Среднего царства (20-го столетие до н.э.), должен был завершиться на 10-15 веков ранее, как раз ко временам ещё предшествовавшим объединению двух царств, Верхнего и Нижнего Египта.
И следовало бы ожидать совершенно иной по временной шкале минувших столетий картины усовершенствования способов мумификации, сообразно которой, например, погребения сановной знати в царских некрополях фараонов I и II династии отличались бы уже относительно образцовыми способами мумификации, соответствующими временам Среднего царства.
Получается, что 10-15 веков в развитии религиозных верований населения нильской долины, которые предшествовали объединению двух царств, Верхнего и Нижнего Египта, с одной стороны, оставили свой неизгладимый след в индивидуальности формирования каждой из номовых религий, религиозный сепаратизм которых сохранял свою значимость на всем протяжении существования Древнего Египта, с другой же стороны, совершенно не оставили никакого следа в развитии религиозных представлений египтян о вечной загробной жизни, получивших хоть какое-то археологическое подтверждение в виде процесса совершенствования способов мумификации тел усопших.
Поскольку история египетской религии, а как выясняется – это история религии Осириса, во-первых, официально в качестве своего первого периода соотнесена с эпохой Древнего царства, а во-вторых, берет свое начало лишь незадолго до I династии фараонов, опираясь на археологические данные о весьма примитивных способах мумификации тел усопших:
«Самый авторитетный специалист по египетским мумиям, английский медик Элиот Смит, указывает, что попытки мумификации имели место уже во времена I династии (ок. 3050–2890 гг. до н. э.), а при II династии (ок. 2890–2722 гг. до н. э.) существовал несовершенный способ мумификации». (3)
Отсутствие археологических свидетельств верований египтян в вечную загробную жизнь, которые следовало бы ожидать в случае присутствия этой веры в религиозной культуре Египта испокон времен (Г. Кеес), а это V-IV тысячелетие до н.э., свидетельствует лишь о том, что концептуальное обоснование религии, основанной на вере в вечную загробную жизнь с её ритуалами погребения своих последователей, возникло значительно позже, чем это представлялось Г. Кеесу и его единомышленникам. Что также подтверждается и отождествлением «египетской религии», с тремя первыми её периодами развития (Тіеlе), фактически, с религией Осириса, о чем речь шла выше, противореча тезису апологетов религии Осириса о том, что вера в вечную загробную жизнь была исконной верой населения нильской долины.
Зарождение веры в вечную загробную жизнь в религиозном сознании кого-либо из представителей жреческого сословия того или иного нома нильской долины ничтожно по своей значимости, по сравнению с приданием этой вере значения религиозной доктрины, подкрепленной соответствующей мифологией. Поэтому речь идет непросто о возникновении веры в вечную загробную жизнь в том или ином номе долины Нила, а именно о концептуальном её обосновании на основе соответствующей мифологией (Осириса), что было характерно для возникновения культа любого из многочисленных богов политеистической религии нома.
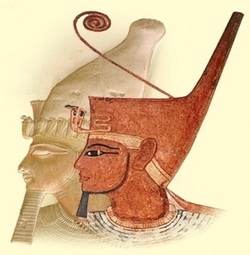
Рис 2. Символы царской власти Верхнего и Нижнего Египта.
Таким образом, заверение (тезис) Г. Кееса и его единомышленников о присутствии испокон времен (V-IV тысячелетие до н.э.) в религиозной культуре населения нильской долины веры в вечную загробную жизнь, не только не позволяет им сформулировать представления о генезисе этой парадигмы религиозного мышления, но и не подкреплено никакими археологическими фактами усовершенствования способов мумификации тел адептов этой веры ранее одного-двух столетий до завершения IV тысячелетия до н.э., когда в нильской долине уже существовало(!) два царства – Верхнего и Нижнего Египта.
Очередным свидетельством отчужденности М.А. Коростовцева от апологетики религии Осириса в египтологии, является его отношение к результатам своего научного труда – «Религия Древнего Египта» (1976), сформулированного им следующим образом:
«В наши дни наука, несомненно, располагает многими превосходными описаниями египетской религии, и все же история египетской религии еще не создана.
Причина этого кроется, с одной стороны, в отсутствии источников, относящихся к древнейшему периоду, с другой – в крайне противоречивом содержании имеющихся источников, что является результатом напластования и смешения взглядов и верований разных времен и местностей.
Предлагаемый труд вовсе не претендует быть историей египетской религии – исторический элемент содержится в нем постольку, поскольку позволяет состояние науки на сегодняшний день». (3)
В отличие от Г. Кееса, М.А. Коростовцев не проецировал на все население долины Нила стереотип восторженного восприятия заупокойного культа Г. Кееса, от увиденного им «в богато оформленном культовом пространстве какой-нибудь гробнице» знатной особы времен Древнего царств. О чем и пойдет речь далее.
№4
Приведя в главе Введение столь противоречивую аргументацию, неспособную опровергнуть свидетельство Геродота, Г. Кеес акцентирует внимание читателей на формулировке задачи, решению которой и посвящает свой труд, «Заупокойные верования древних египтян»:
«Наша задача — на основании египетских свидетельств сформулировать основные понятия египетских представлений о смерти и жизни в загробном мире. Поэтому мы будем заниматься исследованием форм культа, погребального ритуала и эволюции оформления гробницы в меньшей степени, нежели их духовными предпосылками». (2)
Его попытку навязать посредством научных трудов своё предвзятое мнение о приверженности испокон времен «народа» Египта к вере в вечную загробную жизнь, можно квалифицировать как очередную его «ошибку» наряду с другими, упомянутыми М.А. Коростовцевым в своей книге. В основе этой «ошибки», наравне с потребностью выражения солидарности со своими единомышленниками по продвижению апологетики религии Осириса в египтологии, лежит его искренняя восторженность как проявление им, в буквальном смысле, «детской впечатлительности» от увиденного в гробницах сановной знати царских некрополей, представления о которой (впечатлительности) можно получить из нескольких первых абзацев главы Введение его книги:
«ВВЕДЕНИЕ
Египтяне во все времена слыли народом, тесная связь которого с миром мертвых, забота об их погребении и существовании после смерти были наиболее впечатляющими символами страны.
Любой посетитель Нильской долины вновь и вновь ощущает это: нигде в мире нет столь мощных гробничных комплексов, нигде — такого преобладания Города мертвых над местами обитания живых. Жилые районы Нильской долины, царские дворцы и городские здания рассыпались в прах, а заупокойные храмы царей, не уступавшие в роскоши и величии храмам богов, как и сотни гробничных комплексов всех периодов, продолжают поражать наше воображение. …
Все самое существенное, что мы знаем о жизни древних египтян, происходит из царства мертвых, …
Когда же мы попадаем в богато оформленное культовое пространство какой-нибудь гробницы, жизненные картины на стенах предстают перед нами в таком разнообразии, в такой достоверности, ясности и привлекательности, что мы порой забываем, что находимся в гробнице. …
Все это настолько впечатляет, что в большинстве гробниц Старого (Древнего) Царства, если не обращать внимания на жертвенники и на шествия жрецов и игнорировать надписи с заупокойными молитвами, мы едва ли обнаружим признаки, намекающие на предназначение данного места. И это — у того самого народа, который всю жизнь думал о смерти и для которого возведение гробниц было важнее обустройства собственного жилья». (2)
Многие фразы из приведенного выше текста свидетельствуют о чрезвычайной («детской») впечатлительности Г. Кееса от увиденного в царских некрополях, предопределив его субъективизм в гиперболизации значимости для египтян веры в вечную загробную жизнь, что и позволило ему не только проецировать её применительно ко всем слоям египетского общества – на «народ», в целом, но и утверждать о приверженности египтян к этой вере испокон времен, голословно отрицания свидетельство Геродота о приоритете египтян в создании учений о переселении души.
Таким образом, дабы увенчать триумфом апологетику религии Осириса не только в египтологии, но и популяризировать представления о ней в среде научной и околонаучной общественности, Г. Кеес апеллирует не столько к рациональной стороне сознания читателей своей книги, что ему не удалось сделать в попытке подорвать доверие к свидетельствам Геродота, сколько в своем стремлении достичь желаемого результата он пытался навязать читателям эмоциональную сопричастность с восторженностью восприятия рядового обывателя – «Любой посетитель Нильской долины вновь и вновь ощущает это:…», от созерцания памятников архитектуры (пирамид и мастаба) и изобразительного искусства мастеров-ремесленников заупокойного культа, трудившихся над оформлением культового пространства гробниц знатных особ – «богато оформленное культовое пространство какой-нибудь гробницы».
И чтобы закрепить в сознании читателей приоритеты апологетики религии Осириса он совершенно неоправданно в очередной раз гиперболизирует приверженность египетского «народа» к вере в вечную загробную жизнь, с пафосом восторгаясь этими «выдающимися качествами египтян»:
«И одно из самых выдающихся качеств египтян заключается в том, что этот народ не мог забыть «Тексты пирамид» в течение всей своей долгой истории». (2)
Приходя в восторг от увиденного в «богато оформленном культовом пространстве какой-нибудь гробницы» знатной особы, отражавшим собой лишь религиозные приоритеты сановной знати из ближайшего окружения фараонов Древнего царства, Г. Кеес совершенно безосновательно проецирует эти приоритеты на весь народ, что в корне отличается от более взвешенного подхода к этому вопросу М.А. Коростовцева:
«Представителями правящего класса созданы в основном письменные и археологические памятники времен Древнего царства. Естественно, что в них отражены религиозные воззрения именно этого класса. На великолепных фресках в гробницах знати (так называемые мастаба) имеются изображения трудящихся (непосредственных производителей) за работой. Изображения нередко сопровождают ценные для историка социально-экономические сведения, не проливающие, однако, ровно никакого света на религиозные воззрения трудящихся масс того отдаленного времени». (3)
Единомышленников Г. Кееса от «науки» почему-то не смущает факт того, что захоронения подавляющего большинства египтян, в частности, времен Древнего царства и «Текстов пирамид», кардинальным образом отличаются от увиденного Г. Кеесом «в богато оформленном культовом пространстве какой-нибудь гробницы» знатной особы.
Восприятие же М.А. Коростовцева «широких массах народа», времен Древнего царства, весьма существенно отличается от иллюзорных представлений об египетском народе Г. Кееса, что можно проиллюстрировать двумя цитатами:
1.
«Погребения обыкновенного трудового люда совершались до конца эпохи Древнего царства (включая время правления V и VI династий), как и в доисторические времена, без каких-либо специальных погребальных сооружений и мумификации. Их потустороннее существование комфорта не предполагало». (3)
2.
«А что же можно сказать о широких массах народа, создававших пирамиды и мастаба для своих господ? Как они смотрели на загробную жизнь и каким образом намеревались ее себе обеспечить?
Вполне понятно, что, не обладая ни средствами, ни практическими возможностями для сооружения «вечных домов», народ был вынужден придерживаться погребальных обычаев своих предков, обычаев, восходящих к глубочайшей древности» (3)
Смысл текста из приведенных выше цитат не свидетельствует однозначно об убежденности М.А. Коростовцева в том, что «широкие массы трудового народа» исповедовали веру в вечную загробную жизнь. Речь идет лишь об отсутствии у «трудового люда» финансовых средств для оплаты услуг жрецов заупокойного культа, включая акцентирование внимания на существовании неизвестных науке их «погребальных обычаев, восходящих к глубочайшей древности».
А эти факты не предполагают априори веру египетского «народа» в вечную загробную жизнь, на чем делают «ошибочно»(?) акцент апологеты религии Осириса, дескать, по бедности «широкие массы народ» не могли себе позволить сооружение «вечных домов», тем не менее они якобы все как один испокон времен верили в вечную загробную жизнь.
Этот тезис весьма сомнительный и требует своего доказательства, что апологетами религии Осириса попросту игнорируется, в то время как в египтологии присутствует несколько известных фактах, свидетельствующих о его несостоятельности!
Не исключено и совершенно иное объяснение неготовности «трудового люда» воздвигать для усопших родственников «вечные дома», которое столь же предвзято игнорируется единомышленниками Г. Кееса:
«Широкие массы трудового народа» попросту не были вовлечены в заупокойный бизнес жрецов Осириса, всецело отдававших своё предпочтение до краха Древнего царства заботам о благостных перспективах вечного потустороннего существования фараонов в обществе богов правящей династии, включая их семейное окружение и доверенных лиц из сановной знати, удостоенных фараонами чести найти упокоение в вечности в царских некрополях.
Наравне с другими апологетами веры египтян в вечную загробную жизнь, Г. Кеес даже не обременяет себя необходимостью поиска доказательств этой веры для подавляющего большинства египтян в додинастические времена, а также во времена Раннего и Древнего царств, погребальные ритуалы которых неизвестны египтологам, подразумевая и отсутствие представлений о «религиозных воззрений трудящихся масс времен Древнего царства», что и констатировал М.А. Коростовцев:
«Наука не располагает фактическим материалом для воссоздания религиозных воззрений трудящихся масс времен Древнего царства». (3)
При этом следует принять во внимание ещё и отсутствие достоверных сведений о ритуалах похорон «бедных людей» даже во времена Нового царства, как об этом пишет Николас Ривз:
«Мы мало знаем о ритуале похорон бедных людей в Новом царстве». (7)
«Бедные люди» в своей массе – это, отнюдь, не синоним каких-то ущербных изгоев общества или рабов, как можно было бы их себе представить с подачи апологетов религии Осириса. Правильнее, их следует в большинстве своем соотнести с упомянутыми М.А. Коростовцевым «широкими массами народа, создававшими пирамиды и мастаба для своих господ», включая и более широкие слои населения, до поры до времени остававшиеся вне сферы меркантильных интересов заупокойного культа жрецов религии Осириса, вплоть до краха Древнего царства.
* * * * *
Это изгои общества или рабы не могли себе позволить сооружение минимизированных по финансовым затратам «вечных домов», да и то лишь в случае исповедования ими веры в вечную загробную жизнь, в то время как для большинства египтян был характерен не только семейно-родовой уклад жизни, но и оседлый её образ. Для большой семьи с многочисленной родней не являлось чем-то обременительным в финансовом плане с достоинством похоронить усопшего родственника, сообразно традициям своей веры(!): «народ был вынужден придерживаться погребальных обычаев своих предков, обычаев, восходящих к глубочайшей древности». (3)
А эти «погребальные обычаи, восходящие к глубочайшей древности», как это ни прискорбно для единомышленников Г. Кееса, не подразумевали под собой необходимость возведения «вечных домов», чего следовало бы ожидать лишь в том случае, если они действительно испокон времен верили бы в вечную загробную жизнь, «чтя важность сохранения в вечности тела усопшего посредством его мумификации». Результаты же археологических раскопок в своей массе свидетельствуют об обратном – ни «вечных домов», ни мумификации, что в данном случае лишь косвенно опровергает тезис апологетики религии Осириса, категорически отрицающий веру египтян в переселение души, погребальные ритуалы которой как раз и не подразумевали необходимости сооружения «вечных домов» и мумификации тел усопших.
* * * * *
О последствиях для Науки, с большой буквы, «иллюзий» единомышленников Г. Кееса от египтологии, в их стремлении приписать исповедование веры в вечную загробную жизнь всему египетскому народу, ещё и в статусе исконной и единственной парадигмы религиозного мышления, и пойдет речь далее.
Причина популяризации культа Осириса
Лишь после краха Древнего царства, лишившись столь привилегированных клиентов своего заупокойного бизнеса, жречество религии Осириса, присутствовавшее во всех номовых и столичных религиозных центра, предприняло консолидированную попытку модернизации своего заупокойного бизнеса, с целью вовлечения в него состоятельных представителей разных слоев египетского общества.
«Крушение Старого царства явилось глубоким потрясением для политического и духовного развития Египта… Изменения наступили и в погребальном культе, началась его "демократизация", появляются "Тексты саркофагов…" (9)
«В эпоху Среднего царства бурно развивается заупокойная магическая литература в стиле «Текстов пирамид». Прежде всего, это так называемые «Тексты саркофагов», начертанные на стенках каменных и деревянных гробов умерших разного ранга и положения». (3)
Это начинание предполагало поэтапную модернизацию устаревших представлений, времен Раннего и Древнего царств, о загробном мире, «отныне открывавшим врата благостных перспектив» вечной загробной жизни:
– не только перед фараонами («Тексты пирамид»), их семьей и ближайшим окружением, погребенным в царских некрополях;
«О ба обыкновенных людей в последнем смысле слова древнейшие тексты хранят молчание – в «Текстах пирамид» упоминается только ба умершего фараона». (3)
– но и перед «менее состоятельными», но все же зажиточными слоями египетского общества времен Среднего царства, чему свидетельствует «Тексты саркофагов», погребенных в них представителей знати:
«В «Текстах саркофагов» (Среднее царство) говорится о ба погребенных в этих саркофагах представителей знати (эпоха после падения Древнего царства, когда началась так называемая демократизация заупокойного культа)». (3)
– а позднее, ко временам Нового царства, благостные перспективы в вечности загробной жизни снизошли и до мало-мальски состоятельных египтян – «Книга мертвых».
Об этой тенденции в развитии заупокойного культа жрецов религии Осириса свидетельствует признанная в египтологии т.н. «демократизация» заупокойного культа, которая и обусловила необходимость популяризации культа Осириса среди мало-мальски состоятельных египтян, ранее не вовлеченных в сферу меркантильных интересов жрецов Осириса.
««Начиная с VII династии представления о загробной жизни демократизируются», – вполне правильно указывает Тураев.
Сущность этой демократизации состояла в том, что теперь не только фараон, спавший вечным сном в своей пирамиде, не только его вельможная и сановная знать, погребенная в многочисленных мастаба, но и простые смертные претендуют на привилегии в потустороннем мире». (3)
Современные апологеты религии Осириса, представляющие академическую науку на упомянутом выше форуме истории, пытаются обосновать популяризацию культа Осириса после краха Древнего царства тем обстоятельством, что этот культ якобы возник, условно, незадолго до начале его популяризации, которая и предопределила собой тенденцию к «демократизации» заупокойного культа, что следует, отчасти, и со слов Яна Ассмана:
«Центральным религиозным событием Среднего царства было распространение культа Осириса (можно даже сказать, религии Осириса) в египетском обществе. …
Не позднее, чем со времени Среднего царства он стал повсеместно почитаться как бог мертвых и его власть распространилась на всех смертных. Именно с почитанием Осириса связана отчетливая тенденция к «демократизации» эксклюзивных форм культа и веры». Ян Ассман (6)
Подобная трактовка связи «популяризации культа Осириса с тенденцией к «демократизации» заупокойного культа в египетском обществе» предвзято игнорирует причину, которая обусловила необходимость «демократизации» заупокойного культа.
Рис 3. Пирамиды Гизы. 
Востребованность проведения «демократизации» заупокойного культа после краха Древнего царства была вызвана потребностью жречества религии Осириса компенсировать потери своего заупокойного бизнеса из-за утраты богатейшей его клиентуры времен Древнего царства, за счет вовлечения в число адептов религии Осириса, первоначально, «представителей знати» – «Книга Саркофагов», а затем и просто мало-мальски состоятельных египтян, способных оплатить услуги заупокойного бизнеса, гарантировавшие заказчикам перспективы вечной жизни в раю, «сехет иару», царства мертвых Осириса – «Книга мертвых».
Для этого и была развернута широкомасштабная кампания по популяризации культа Осириса среди широких слоев мало-мальски состоятельных египтян, ранее остававшихся вне сферы меркантильных интересов заупокойного бизнеса. Так что популяризация культа Осириса, начиная с времен Среднего царства, представляла собой масштабную и долговременную рекламную кампанию для привлечения новых адептов в лоно религии Осириса, способствуя увеличению клиентуры её заупокойного бизнеса.
Поэтому домыслы апологетов религии Осириса о том, что культ Осириса якобы возник, условно, незадолго до начала его популяризации после краха Древнего царства, послужив поводом для «демократизации» заупокойного культа, несостоятельны, как и прочая их деятельность в египтологии.
Эта попытка «поставить телегу перед лошадью», поменяв местами причину, вызвавшую необходимость «демократизации» заупокойного культа, и её следствие – проведение «рекламной кампании» по популяризации культа Осириса, настолько нелепа в связи со своей очевидностью, что в очередной раз можно убедиться не только в предвзятости апологетов религии Осириса от египтологии, но и в их неспособности осмыслить последствия развития приоритетных тезисов своей же апологетики:
Само по себе признание в египтологии совокупности(!) двух фактов:
1) до конца эпохи Древнего царства «потустороннее существование обыкновенного трудового люда комфорта не предполагало» (3);
2) вследствие «демократизации» заупокойного культа после краха Древнего царства «простые смертные претендуют на привилегии в потустороннем мире» (3);
вступает в непримиримое противоречие с апологетикой религии Осириса, дискредитируя её тезис о том, что вера в вечную загробную жизнь была исконной верой египетского народа.
Если бы все поголовно египтяне испокон времен верили в вечную загробную жизнь, на чем настаивают единомышленники Г. Кееса, то,
во-первых, это утверждение (тезис) противоречит свидетельству о том, что «потустороннее существование обыкновенного трудового люда комфорта не предполагало» до краха Древнего царства, причины чему достаточно веские(!), чтобы их игнорировать,
а во-вторых, установленный в египтологии факт «демократизации» заупокойного культа был бы совершенно лишен смысла в том случае, если бы египетский народ исповедовал веру в вечную загробную жизнь испокон времен, которая и лежит в основе заупокойного культа.
По всей видимости, понимание этих противоречий находится вне сферы интеллектуальных достоинств апологетов религии Осириса от египтологии и академической науки, если, конечно, это не является результатом умышленного извращения представлений о египетской религии. По всей видимости, и то и другое справедливо в равной степени.
О последствиях для египтологии фальсификации египетской религии единомышленниками Г. Кееса и пойдет речь далее. Это позволит представить себе египетскую цивилизацию в свете развития главного тезиса апологетики религии Осириса о вере в вечную загробную жизнь как об исконной вере населения долины Нила.
Аморальный апокалипсис египетской цивилизации
Многобожие, свойственное религиозной культуре каждого из многочисленных номов нильской долины, предполагало веру жителя нома в иерархию разных номовых божеств, а предназначение некоторых из них могло быть самым утилитарным, в отличие от главного бога нома, «от которого зависела жизнь и смерть его жителей»:
«В дидактическом демотическом тексте, известном в науке как папирус Инсингер, говорится: «От бога, почитаемого в городе, зависит жизнь и смерть жителей города. Нечестивец, уходящий на чужбину, отдает себя в руки врага». Под «нечестивцем» подразумевается человек, покидающий свой ном и номового бога. В данном случае мы имеем дело с откровенной пропагандой исконного местного религиозного сепаратизма». (3)
Поэтому далеко не все боги и божества, тем или иным образом почитаемые в номе, были сопряжены с представлениями о доктрине бессмертия человеческой души, преследуя зачастую утилитарные цели, например, оказывая покровительство в разных сферах земного бытия жителей нома, таких как благополучные роды, исцеление от недугов, покровительство в удачной охоте, земледелии и т.п., что и служило поводом в каждом конкретном случае обращаться с молитвами к тому или иному богу, делая ему подношение через служителей его культа.
Вера человека в какую-либо религиозную концепцию (религию), главенствующую в религиозной жизни, например, нома (государства), в основе которой лежат представления о бессмертии человеческой души, обременяя его требованиями соблюдения моральных и нравственных норм поведения в социуме («богоданных заповедей, законов и т.п.»), должна быть соответствующим образом ПРОСТИМУЛИРОВАНА!
Например, как в Христианстве, обязывающим своих последователей соблюдать заповеди и законы Господа, следуя наставлениям Его слуг, священников, что простимулировано благостными перспективами вечной жизни в Царствии Его Небесном.
Вера же в реинкарнацию и переселение души несколько иначе стимулирует своих приверженцев придерживаться общественно значимых устоев морали и нравственности. (Для египтян эти устои воплощались в контексте концепции Маат – «концепция Маат составляет основное звено египетской этики» (3), которая к вере в вечную загробную жизнь изначально не имела никакого отношения, стимулируя соответствующим образом своих приверженцев «прожить жизнь с Маат в сердце» (3), т.е. вести максимально благонравный и законопослушный образ жизнь. Но о её роли в религиозной жизни населения нильской долины речь пойдет в основном уже вне рамок апологетики религии Осириса.)
Обе парадигмы религиозного мышления доктрины бессмертия человеческой души стимулируют своих последователей по-разному, тем не менее в своем идеале обязаны прививать в их религиозном сознании необходимость соблюдения норм морали и нравственности, включая законопослушание и т.п., чему и служат заповеди и законы, «извечно установленные Творцом». А в Его роли в каждой из современных монотеистических религий выступает свой Бог, что в полной мере относилось и к политеистическим религиям, где в этой роли, как правило, фигурировал верховный Бог, Творец, возглавлявший иерархию богов и божеств рангом пониже.
«В свете науки любая этика, и египетская в том числе, является результатом объективного развития общества, рождается социальной необходимостью». (3)
Доктрина бессмертия человеческой души, включающая в себя две парадигмы религиозного мышления, и является средством реализации этой «социальной необходимости», прививая в религиозном сознании членов социума представления об этических нормах поведения, соблюдение которых предписывается волею Бога-Творца как непререкаемого религиозного авторитета:
«Маат – это надлежащий порядок в природе и обществе, который установил творец, а посему все, что правильно и точно; вместе с тем это закон, порядок, справедливость и правда». (3)
И поскольку апологетика религии Осириса в египтологии отвергает веру египтян в переселение души, «ставя большой крест» на существовании этой парадигмы религиозного мышления в религиозной культуре населения долины Нила, то нам остается иметь дело лишь в её альтернативой – верой в вечную загробную жизнь, которая якобы безраздельно господствовала в религиозной жизни египтян (испокон времен), начиная с времен становления ещё независимых новом в долине Нила, где-то в середине-конце V тысячелетии до н.э.
Следовательно, эта парадигма религиозного мышления априори должна была стимулировать высокие моральные и нравственные нормы поведения своих последователей какими-либо благостными для них перспективами в загробном мире, учитывая перспективы вечного их потустороннего существования.
И какая же картина нравственного облика египетского народа предстает перед нами, сообразно приоритетам апологетики религии Осириса в египтологии и академической науке?
Отсутствие стимула для веры в вечную загробную жизнь
Констатация же факта отсутствия каких-либо привилегий в загробном мире у подавляющего большинства египтян, поскольку «потустороннее существование обыкновенного трудового люда комфорта не предполагало» (3) до краха Древнего царства, создает в египтологии и академической науке весьма щекотливую в смысле своей абсурдности ситуацию, ни много ни мало лишая население нильской долины смысла исповедовать веру в вечную загробную жизнь. Поскольку их загробное существование в вечности не подразумевало каких-либо преференций для них, что и придает какую-то немыслимую абсурдность подобному варианту веры в вечную загробную жизнь, соответствуя весьма нелепым представлениям о такой вере апологетов религии Осириса.
Поясню мысль на примере столь же абсурдного гипотетического варианта, условно, «Христианства», которое к реальному Христианству не имеет никакого отношения, в связи со своей абсурдностью и его востребованностью в качестве умозрительного примера.
Представьте, что в этом гипотетическом варианте «Христианства», уровня каждого из многочисленных номов нильской долины, с его верой в вечную загробную жизнь, полностью отсутствовал бы стимул для праведных верующих оказаться после смерти в подобии «Царства Небесного Господа», по аналогии с тем, как в реальном Христианстве благостно его себе представляют христиане, в качестве воздаяния за их приверженность к образу жизни праведного христианина, следующего по жизни наставлениям священников.
У такого гипотетического варианта «Христианства», обделяющего свою паству перспективами грядущего блаженства в вечности их загробной жизни, вообще не было бы шансов на существование, чего попросту не способны понять единомышленники Г. Кееса от египтологии и академической науки. «Трудовой люд», составлявший подавляющее большинство египетского народа, не имел стимула для веры в столь бесперспективный для них вариант вечной загробной жизни.
Следовательно, вера в вечную загробную жизнь по крайней мере «от начала времен» и до краха Древнего царства совершенно не была соответствующим образом простимулирована для подавляющего большинства населения долины Нила.
Исключение составляли фараоны, номархи и их сановная знать, чьи благостные перспективы в вечности загробной жизни им гарантировали жрецы заупокойного культа религии Осириса, чьим творчеством, оставившим свои следы в археологических памятниках и религиозной литературе, восторгался Г. Кеес.
И поскольку подавляющее большинство египтян совершенно не имело стимула для веры в вечную загробную жизнь «от начала времен» и до краха Древнего царства, сам собой напрашивается вывод о том, что народ Египта в большинстве своем не исповедовал веру в вечную загробную жизнь, а стало быть и не был вовлечен в заупокойный бизнес жрецов Осириса, оставаясь вне сферы их меркантильных интересов, вплоть до краха Древнего царства.
Этот вывод имеет дополнительное и весьма весомое подтверждение в известным египтологам факте «демократизации» заупокойного культа, произошедшей после краха Древнего царства:
«Сущность этой демократизации состояла в том, что теперь не только фараон, спавший вечным сном в своей пирамиде, не только его вельможная и сановная знать, погребенная в многочисленных мастаба, но и простые смертные претендуют на привилегии в потустороннем мире». (3)
Поэтому лишь став адептами религии Осириса в результате «демократизации» заупокойного культа, для чего и проводилась по всему Египту «рекламная кампания» по популяризации культа Осириса, состоятельные египтяне из разных слоев общества получали возможность воспользоваться «привилегиями в вечности своей загробной жизни», которых они были лишены испокон времен и до краха Древнего царства, а то и до завершения эпохи Среднего царства.
И вот этот крайне абсурдный в своей несостоятельности вариант религии гипотетического «Христианства», «реализующего собой веру египетского народа в вечную загробную жизнь», и якобы существовавший испокон времен, пытаются внедрить в сознание наших современников апологеты религии Осириса от египтологии и академической науки.
На этом примере в очередной раз можно убедиться в том, что их ментальная сфера восприятия информации, ориентированная лишь на бездумном запоминание и цитирование изречений Авторитетов, подобных Г. Кеесу (по примеру цитирования Св. Писания), совершенно лишена такого её инструмента как осмысленность восприятия в качестве основы критического мышления, позволяющего вникать в её смысл.
Но это лишь один из фрагментов мозаики нелепостей в качестве результата развития тезиса апологетов религии Осириса об исконности веры в вечную загробную жизнь народа Египта. Иной аспект этого абсурда имеет более чудовищные последствия для египтологии и Науки, в целом.
Аморальный апокалипсис египетской цивилизации
Привилегиями в потустороннем мире вечной загробной жизни до краха Древнего царства пользовались лишь фараоны, номархи и их ближайшее окружение, что и стимулировало их приверженность к религии Осириса и к её вере в вечную загробную жизнь, и это вполне объяснимо. Подавляющее же большинство египтян было банальнейшим образом обделено перспективами благ своей загробной жизни, поскольку в нем «их потустороннее существование комфорта не предполагало», гипотетически, обрекая их ещё и на обездоленное существование в вечности загробной жизни, что, вполне закономерно, обессмысливало их веру в вечную загробную жизнь.
Спрашивается, а кому из представителей простого народа была нужна такая вера в вечную загробную жизнь, которая, с одной стороны, казалось бы, должна стимулировать благонравное и законопослушное поведение её приверженцев, соблюдая устои морали и нравственности египетского общества, в воздаянии за что, с другой стороны, эти приверженцы совершенно не получают никаких стимулов для своей веры, поскольку в вечности загробной жизни «их потустороннее существование комфорта не предполагало»? (3)
Это обстоятельство совершенно не стимулировало их придерживаться каких-либо удобоваримых для социума норм морали и нравственности при жизни, чему, казалось бы, и должна служить по своему предназначению доктрина бессмертия человеческой души, включая одну из двух её парадигм религиозного мышления – веру в вечную загробную жизнь, как это имеет место, например, в Христианстве, да и то, гипотетически, и не во всех конфессиях в равной мере.
Народ нильской долины был обделен благостными перспективами загробной жизни, в отличие от фараонов, номархов и их ближайшего окружения, для которых их морально-нравственный облик совершенно не оказывал влияния на перспективы получения ими, утрированно, «полного пакета благ в вечности» загробной жизни, благодаря рачительной заботе об этом жрецов заупокойного культа и их всесильной заупокойной магии. В религии Осириса времен Раннего и Древнего царств не существовало концепции загробного суда, поскольку это судилище априори было неуместно в отношении богатейших и влиятельнейших клиентов заупокойного бизнеса: фараонов, номархов, их семей и ближайшего окружения.
Да и во времена Среднего царства начинают лишь выкристаллизоваться представления о загробном суде, полностью концептуально оформленные лишь ко временам Нового царства – 125-я глава «Книги мертвых»:
«В дальнейшем, начиная с Первого переходного периода, удельный вес элементов этики в заупокойных текстах становится все более значительным. Этой проблеме посвящена новая работа немецкого египтолога Грисхаммера, собравшего и исследовавшего все данные о загробном суде, содержащиеся в «Текстах саркофагов» (начиная с Первого переходного периода и кончая временем Среднего царства). В этих текстах нет еще развернутой картины загробного суда, как в знаменитой 125-й главе «Книги мертвых», но развитие идеи загробного суда явно намечено». (3)
И как писал Г. Масперо в книге «Древняя история народов Востока», в контексте «изменения представлений о загробной жизни, о средствах достижения загробного счастья» (знати времен Среднего царства), это счастье совершенно не зависело от того, каков был их морально-нравственный облик при жизни:
«Земная жизнь человека не имела при этом никакого влияния на его загробное существование: злой или добрый, справедливый или несправедливый, раз над ним совершены были определенные обряды и аккуратно произносились известные молитвы, становился счастливым и богатым в загробной жизни». (4)
В этой цитате речь идет об избранных представителях придворной знати фараонов и номархов времен Древнего царства и о более широком круге выходцев из состоятельных слоев общества времен Среднего царства, у которых, в отличие от «широких масс трудового люда», было достаточно финансовых средств, чтобы оплатить весьма недешевые, по тем временам, услуги дельцов заупокойного бизнеса, гарантировавших заказчику счастливые перспективы в вечности их загробной жизни, посредством «совершения определенных обрядов и аккуратно произносенных молитв».
Таким образом, перспективы загробного счастья сановной знати не были поставлены в зависимость от их прижизненного нравственного облика, а подобное представление о вере в вечную загробную жизнь самым беспардонным образом дискредитирует главное предназначение доктрины бессмертия человеческой души и этой парадигмы религиозного мышления (в своем идеале) – стимулировать благостные перспективы в загробной жизни лишь в том случае, если верующий при жизни являл собой, утрированно, образцовый примером праведности по итогам всей жизни. Как это имеет место, гипотетически, во многих современных религиях, основанных на вере в вечную загробную жизнь, за некоторыми исключениями.
Т.е. сообразно вполне реалистичным представлениям египтологов, мнение которых выразил Г. Масперо, на определенном этапе развития представлений «египтян» о загробной жизни, до того как возникла необходимость концептуального обоснования загробного суда, гипотетически, ставившего перспективы потустороннего существования в вечности в зависимость от нравственного облика усопшего, заупокойный бизнес жрецов Осириса, фактически, гарантировал любому, кто был способен оплатить услуги заупокойного бизнеса, перспективы «счастья и богатства в вечности загробной жизни»:
«… злой или добрый, справедливый или несправедливый, раз над ним совершены были определенные обряды и аккуратно произносились известные молитвы, становился счастливым и богатым в загробной жизни». (4)
Столь аморальный по своей сути заупокойный бизнес жрецов Осириса времен Среднего царства позволял её адептам наплевать на этические устои египетского общества, стимулируя в их среде казнокрадство, мздоимство, злоупотребление в корыстных целях властью, включая судебную власть, и т.п., в надежде на возможность скопить достаточно финансовых средств на столь перспективном для своего обогащения поприще, для оплаты услуг дельцов заупокойного бизнеса, посредством чего открыть себе перспективы богатства и счастья ещё и в вечности загробной жизни.
Коррупция в органах власти и в судебной системе Древнего Египта зародилась именно благодаря столь аморальной деятельности жрецов заупокойного культа религии Осириса (преимущественно, уже после краха Древнего царства), приторговывавших местами в царстве мертвых своего бога, прельщая своих адептов благостными перспективами счастья и богатства в вечности их загробной жизни.
«Статьи указа (Новое царство) против взяточничества судей свидетельствовали, что и на суде бедняк не находил управы на обидчиков». О.Я. Перепёлкин (8)
 Рис 4.Торговля индульгенциями.
Рис 4.Торговля индульгенциями.
Формально, суть этого аморального бизнеса времен Среднего царства составляла фундамент последующего этапа своего развития – столь же аморальной торговли свитками «Книги мертвых» уже времен Нового царства.
В свою очередь, торговля свитками «Книги мертвых» стала прототипом торговли индульгенциями в Римско-католической церкви, за звонкую монету отпуская грехи прихожанам, столь же, но лишь поэтапно – на протяжении всей жизни, обнадеживая их благодатью в Царствии Небесном Господа.
А сейчас представьте себе гипотетическую картину «аморального апокалипсиса» египетской цивилизации, «которую рисуют апологеты религии Осириса от египтологии», сами того не осознавая, настаивая на том, что вот такой образчик веры в вечную загробную жизнь был свойственен испокон времен для всего населения долины Нила.
Возможно, по бедности «трудовой люд» и не имел финансовых средств для возведения «вечных домов», тем не менее якобы был способно оплатить услуги жрецов заупокойного культа, аналогичные описанным в цитате Г. Масперо: «Земная жизнь человека не имела при этом никакого влияния на его загробное существование: злой или добрый,…».
Это же картина «аморального апокалипсиса» в масштабах непросто жизнедеятельности высших слоев египетского общества («рыба гниет с головы»), которая стала реальностью в нем со времен Среднего царства, а уже в масштабах всей цивилизации Древнего Египта!
Не только представитель знати, являясь адептом религии Осириса, мог наплевать на моральные устои общества, например, корыстно верша неправедный суд в пользу богача, но и все население аналогичным образом могло игнорировать этические устои общества, что стимулировало к аморальным и противозаконным поступкам: насилие, воровство, грабежи, убийства и т.п., в надежде на то, что скопив на этом поприще, преимущественно, противозаконной деятельности достаточно денежных средств к концу жизни, для оплаты услуг дельцов заупокойного бизнеса, ещё и гарантировать себе счастливую и богатую жизнь в вечности загробной жизни.
Да и по жизни заработанных таким образом денег было бы достаточно для подкупа коррумпированных судей, уподоблявших себя судьям загробного судилища Осириса, готовых вынести оправдательный вердикт злостному нарушителю законов и этических устоев общества, поскольку загробная магия «Книги мертвых» точно также гарантировала оправдательный вердикт любому, кто вовремя занес «денюшку» дельцам заупокойного бизнеса, в связи с чем «оказывался безгрешным и святым» в глазах судей загробного судилища:
«Если в 125-й главе «Книги мертвых» очень важную, можно сказать основную, роль играет загробный суд, основанный на нравственном принципе, то магия, пронизывающая всю «Книгу мертвых», в этой главе призвана не допустить неблагоприятного для умершего приговора суровых загробных судей.
Умерший, ссылаясь на знание имен судей, делает их для себя безопасными и превращает свои оправдания в магические формулы, заставляющие признать его невиновность. Всякий египтянин с этой главой в руках и на устах оказывался безгрешным и святым, … Таким образом, вся глава была просто талисманом против загробного осуждения». (3)
И вот эта гипотетическая картина «аморального апокалипсиса» в масштабах всей цивилизации Древнего Египта и является следствием признания апологетами религии Осириса от египтологии веры всех поголовно египтян в вечную загробную жизнь, учитывая представления «о средствах достижения загробного счастья» (Г. Масперо), применительно не только к представителям знати, но и ко всему населению долины Нила, по крайней мере, «от начала времен» до середины-конца Среднего царства.
Гипотетическая картина «аморального апокалипсиса» египетской цивилизации, являющаяся порождением «ущербности менталитета» единомышленников Г. Кееса от египтологии, неспособных оценить последствий развития приоритетных тезисов своей апологетики, вступает в противоречие с известными в египтологии представлениям о высоких стандартах морально-нравственного облика египтян, о чем свидетельствует, в частности, цитата из книги «Египет: теология и благочестие ранней цивилизации» Яна Ассмана, где он ссылается на Геродота и других античных авторов:
«Геродот и другие античные авторы подтверждают сложившееся у нас впечатление, называя египтян самым благочестивым из всех народов». (6)
И вновь мнение «Геродота и других античных авторов» о египтянах, уже как о самом благочестивом народе, противопоставляется вполне закономерным следствиям развития приоритетных тезисов апологетики религии Осириса, восприятие которых не находит своего вразумительного понимания в их академической среде.
Одновременно, эта гипотетическая картина «аморального апокалипсиса» противоречит и представлениям науки о зарождении египетской этики, «являвшейся результатом объективного развития общества»:
«В свете науки любая этика, и египетская в том числе, является результатом объективного развития общества, рождается социальной необходимостью». (3)
Потому что приоритетный тезис апологетики религии Осириса о вере в вечную загробную жизнь всего населения долины Нила, ещё и испокон времен, как и его закономерное следствие – гипотетическая картина «аморального апокалипсиса» египетской цивилизации, не подразумевает под собой либо вообще закрепление в религиозном сознании этических устоев египетского общества, либо девальвирует полностью их значимость для египтян, посредством внушения им представлений «о средствах достижения загробного счастья»:
«Земная жизнь человека не имела при этом никакого влияния на его загробное существование: злой или добрый, справедливый или несправедливый, раз над ним совершены были определенные обряды и аккуратно произносились известные молитвы, становился счастливым и богатым в загробной жизни». (4)
Приведенные выше аргументы доказывают несостоятельность главного тезиса апологетики религии Осириса – признание веры в вечную загробную жизнь исконной верой населения долины Нила.
Апологеты религии Осириса, по всей видимости, либо не способны понять всей глубины аморальности деятельности жрецов заупокойного культа религии Осириса и её последствий для египетского общества и, в целом, для человечества, что весьма сомнительно, либо преднамеренно игнорируют этот аспект их деятельности, воспринимая его как должное, тем самым морально оправдывая подобного рода заупокойный бизнес, который и по сию пору не потерял своей актуальности…
По всей видимости, этим и объясняется неготовность апологетов религии Осириса от египтологии и академической науки подвергать моральному осуждению заупокойный бизнес, построенный на «торговле местами в раю …»
И вновь на их фоне можно выделить М.А. Коростовцева, который с прискорбием констатировал утрату «высоких приобретений нравственного порядка» в концепции загробного суда жрецов Осириса:
«Если в 125-й главе «Книги мертвых» очень важную, можно сказать основную, роль играет загробный суд, основанный на нравственном принципе, то магия, пронизывающая всю «Книгу мертвых», в этой главе призвана не допустить неблагоприятного для умершего приговора суровых загробных судей. …
Так были уничтожены высокие приобретения нравственного порядка, и Книга Мертвых оказывается свидетельством и об их наличности, и об их печальной судьбе». (3)
Последствия для египтологии «ущербности менталитета» единомышленников Г. Кееса
Апологетика религии Осириса с её представлениями о вере в вечную загробную жизнь всех поголовно египтян времен додинастических, Раннего и Древнего царств, с одной стороны, дискредитирует саму суть этой парадигмы религиозного мышления и в целом доктрину бессмертия человеческой души, поскольку, утрированно, «полный пакет блага загробной жизни предоставлялся» фараонам, членам их семьи и сановной знати, вне зависимости от их прижизненного нравственного облика. С другой же стороны, делает бессмысленным веру подавляющего большинства египтян в вечную загробную жизнь, совершенно её не стимулируя, поскольку в ней «их потустороннее существование комфорта не предполагало», обесценивая таким образом важность соблюдать ими при жизни каких-либо удобоваримых для социума моральных и нравственных нормы поведения, сводя на нет саму суть предназначения доктрины бессмертия человеческой души – прививать в религиозном сознании своих последователей этические устои общества, «извечно установленные Творцом».
Следствием же представлений «о средствах достижении загробного счастья» Г. Масперо не только представителей знати, но и всего народа нильской долины, является гипотетическая картина «аморального апокалипсиса» в масштабах всей цивилизации Древнего Египта, противореча представлениям Геродота и других античных авторов, включая Яна Ассмана, об египтянах как о «самым благочестивым из всех народов».
Это противоречие, в котором следует отдать предпочтение представлениям античных авторов, включая Геродота, и Яна Ассмана, о благочестивом нраве египетского народа, полностью обесценивает домыслы апологетов религии Осириса об исконности веры в вечную загробную жизнь египтян, вследствие чего и возникает гипотетическая картина «аморального апокалипсиса» египетской цивилизации.
Следовательно, представления единомышленников Г. Кееса об исконности веры в вечную загробную жизнь в религиозной культуре населения долины Нила, мягко говоря, не соответствуют действительности, отражая собой лишь их заинтересованность, кампанейщину, в продвижении апологетики религии Осириса в египтологии и академической науке, «предположительно», в угоду апологетике веры в вечную загробную жизнь, в частности, Римско-католической церкви. В чем и прослеживается её подспудное влияние на египтологов, специализировавшихся на изучении египетской религии, среди которых одним из исключений являлся М. А. Коростовцев, по всей видимости, в силу доминирования атеистического мировоззрения в среде ученых СССР.
Подводя итоги рассмотрения четырех примеров предвзятости и абсурдности аргументации единомышленников Г. Кееса, призванной подорвать доверие к свидетельству Геродота о приоритете египтян …, следует перечислить закономерные последствия их деятельности, дискредитирующие уже саму апологетику религии Осириса, благоденствующую в египтологии под патронажем академической науки:
1. Демонстративное игнорирование несостоятельности аргументации опровержения свидетельств Геродота служит свидетельством предвзятости единомышленников Г. Кееса, чем и характеризуется терминологически «апологетика» («предвзятая защита, восхваление чего-либо») любой из религий, а в нашем неординарном случае речь идет об апологетике одной из двух парадигм религиозного мышления – апологетике веры в вечную загробную жизнь в качестве основы религии Осириса и Христианства.
2. Предвзятость в выборе источников информации для закрепления в египтологии приоритетных для апологетики религии Осириса тезисов, главным из которых является бескомпромиссное отрицание веры египтян в переселение души, и их приоритета в создании соответствующих учений, под предлогом совершенно голословного заверения Г. Кееса, дескать, эти «учения, чуждые египетским представлениям». Этот тезис взаимосвязан с тезисом признания веры в вечную загробную жизнь исконной верой населения долины Нила, при полном отсутствии его доказательной базы у единомышленников Г. Кееса.
3. Уличение в бестолковости всемирно известных древнегреческих философов, заложивших основы науки и философии западной цивилизации, которые якобы по этой причине, «и кто бы мог подумать», не смогли понять приоритеты веры «египтян» в вечную загробную жизнь.
3а. Отождествление генезиса веры в переселение души с НЕДОРАЗУМЕНИЕМ, наравне с неспособностью прояснить генезис веры в вечную загробную жизнь.
4. Ущербность представлений об истории египетской религии, первый период развития которой соотнесен с эпохой Древнего царства, при игнорировании предшествовавшего этапа развития религиозных верований населения долины Нила, протяженность в 10-15 веков, т.е. игнорирование проторелигии додинастического Египта и её роли в формировании египетской этики – концепции Маат.
4а. Отождествление истории египетской религии с историей религии Осириса, сообразно сопоставлению каждого из трех первых «периодов истории египетской религии (О.Р. Тіеlе)» трем «Книгам» заупокойного культа: «Текстам пирамид», «Текстам саркофагов» и «Книге мертвых». Что, фактически, дискредитирует тезис о существовании веры в вечную загробную жизнь испокон времен в религиозной культуре населения нильской долины, коль скоро первый период в истории египетской религии, а по сути – история религии Осириса, соотносится лишь с эпохе Древнего царства. В то время как пятисотлетняя история этой эпохи отражает собой величие и могущество единой державы Древнего Египта и её фараонов, оставивших человечеству в память о себе величественные пирамиды, признанные одним из семи чудес света.
И вот это «недоразумение египтологии» игнорирует 10-15 веков истории развития египетской цивилизации, которые предшествовали объединению двух царств Верхнего и Нижнего Египта на рубеже IV-III тысячелетия до н.э.
5. Отсутствие стимулов для веры в вечную загробную жизнь у подавляющего большинства населения долины Нила «от начала времен» до середины-конца Среднего царства, поскольку в ней «их потустороннее существование комфорта не предполагало». Что является бесспорным доказательством несостоятельности тезиса апологетики религии Осириса об исконности веры всех поголовно египтян в вечную загробную жизнь.
5а. Признанный в египтологии факт «демократизация» заупокойного культа после краха Древнего царства дополнительно подтверждает несостоятельность тезиса апологетики религии Осириса об исконности веры египтян в вечную загробную жизнь.
6. Картина «аморального апокалипсиса» в масштабах всей египетской цивилизации, являющаяся закономерным следствием развития тезиса о признании веры в вечную загробную жизнь исконной верой населения долины Нила, во-первых, противоречит свидетельствам Геродота и других античных авторов об египтянах как «о самом благочестивом из всех народов», что соответствует и представлениям Яна Ассмана, а во-вторых, противоречит представлениям науки о зарождении египетской этики, «являющейся результатом объективного развития общества»:
«В свете науки любая этика, и египетская в том числе, является результатом объективного развития общества, рождается социальной необходимостью». (3)
Потому что этот тезис апологетики религии Осириса либо вообще не подразумевает под собой закрепление этических устоев египетского общества в религиозном сознании египтян, либо девальвирует полностью их значение, посредством прельщения адептов религии Осириса «богатством и счастьем в вечности загробной жизни», вне зависимости от соблюдения или несоблюдения ими моральных и нравственных устоем египетского общества.
Эти оба противоречия каждый в отдельности и в своей совокупности также служат доказательством несостоятельности тезиса апологетики религии Осириса о признании веры в вечную загробную жизнь исконной верой населения долины Нила.
7. Отсутствие понимания предназначения доктрины бессмертия человеческой души и двух её парадигм религиозного мышления в религиозной жизни населения долины Нила.
«Прививка» в религиозном сознании египтян каждого из номов необходимости соблюдения этических устоев общества, ради укрепления его единства и процветания под управлением номарха, являлась прерогативой деятельности религиозных центров в каждом из многочисленных номов долины Нила, представлявших собой опору светской власти номархов.
8. Патологическая неспособность осмыслить последствия для египтологии развития приоритетных тезисов своей апологетики, результаты чего и проиллюстрированы предыдущими пунктами перечня.
Тем не менее этот перечень не исчерпывает собой иные абсурдные недоразумения и проблемы, привнесенные апологетикой религии Осириса в египтологию. Отмеченная в пункте 8 перечня «особенность менталитета» апологетов религии Осириса порождает большинство проблем в египтологии, пресекая возможность реалистичного объяснение некоторым из самых значительных событий истории Древнего Египта, например, религиозной реформы Аменхотепа IV-Эхнатона, как и причины происхождения (генезис) и исходного смысла мифологии Осириса, делая эти темы априори недоступными для своего адекватного осмысления в науке, как и многое прочее, что и является следствием деятельности единомышленников Г. Кееса в египтологии.
Роль доктрины бессмертия человеческой души в истории египетской цивилизации
«Религия – это первое мировоззрение человека.
Вполне понятно, что с религией теснейшим образом связаны первые шаги человека в любой отрасли знания и искусства, ибо и знание, и искусство были чисто эмпирические и над любой практической деятельностью человека господствовали религиозные воззрения». М.А. Коростовцев
Всеобъемлющее влияние представлений о божественной природе окружающего мира предопределило во времена ранних цивилизаций, в частности, характер деятельности жречества религиозных центров многочисленных номов долины Нила, становление которых происходило в условиях их изначальной самоизоляции с 45-40 столетия до н.э., когда и формировались самобытные номовые религии, обусловившие впоследствии религиозный сепаратизм номов.
Общей целью номарха и жречества религиозного центра его нома была насущная для них потребность сформировать из представителей разнородных племен (в том числе и племен, ранее мигрировавших с необъятных просторов Северной Африки в нильскую долину), проживавших на территории нома, единое сообщество его граждан, способных извлечь выгоды для своей жизнедеятельности из условий выживания в составе государственного образования, каковым и стал каждый ном в долине Нила. Этой цели, в первую очередь, служили законы светской власти номарха, силовыми методами навязывая жителям нома правовые нормы их жизнедеятельности, прививая им социальные навыки мирного сосуществования в едином сообществе во главе с номархом.
В свою очередь, деятельность жречества религиозных центров была сосредоточена на том, чтобы привить в религиозном сознании каждого жителя нома потребность соблюдения моральных и нравственных норм поведения в социальной среде своего нома, включая придание законам светской власти значимости религиозных табу, нарушение которых грозило не только преследованием судебной властью номарха, но и не оставаясь без последствий подлежало «карам небесным главного бога Нома» в том случае, если злоумышленнику удавалось избежать наказания светского суда.
Моральные и нравственные устои социума каждого из номов, как и подавляющее большинство законов светской власти номархов, были единообразны, т.е. универсальны для любого из номов, преследуя идентичную для них цель – создание условий для укрепления единства жителей нома во главе с номархом, что, потенциально, благоприятствовало и извлечению известной выгоды из этой стратегии взаимовыгодного их сотрудничества, лишь при условии соблюдения этических устоев социума своего нома.
«В свете науки любая этика, и египетская в том числе, является результатом объективного развития общества, рождается социальной необходимостью». (3)
Не существует иного «механизма», реализующего собой объективные закономерности цивилизационного пути развития общественной среды, уровня становления ещё независимых номов нильской долины, кроме доктрины бессмертия человеческой души, единственно способной привить в религиозном сознании древних египтянин этические нормы поведения в социуме, с целью их социализации в общественной жизни каждого из новом.
«Концепция Маат составляет основное звено египетской этики». (3)
Совместная деятельность номархов и жречества их религиозных центров достигла своих целей на завершающем этапе формирования социального уклада жизни номов ещё в условиях их самоизоляции, о чем свидетельствует религиозный сепаратизм каждого из номов, ограничивавший ареал безопасного пространства для жителей нома его территорией, пребывавшей под защитой не только воинства номарха, но и олицетворявшего власть номарха главного бога нома:
«В дидактическом демотическом тексте, известном в науке как папирус Инсингер, говорится: «От бога, почитаемого в городе, зависит жизнь и смерть жителей города. Нечестивец, уходящий на чужбину, отдает себя в руки врага».
Под «нечестивцем» подразумевается человек, покидающий свой ном и номового бога. В данном случае мы имеем дело с откровенной пропагандой исконного местного религиозного сепаратизма». (3)
«На протяжении многовековой истории Египта облик номового сепаратизма изменялся, но номы всегда стремились сохранить свои специфические особенности. Наиболее рельефно отражались сепаратистские тенденции в системе местных религиозных культов». (3)
И поскольку приведенная ранее аргументация исчерпывающе доказывает несостоятельность тезиса апологетики религии Осириса о вере в вечную загробную жизнь как об исконной вере населения нильской долины, то закономерным следствием констатации этого факта становится признание в качестве исконной парадигмы религиозного мышления древних египтян – веру в бессмертие человеческой души в череде ей перевоплощений в подлунном мире, т.е. веру в переселение души. Подтверждением чему и служат свидетельства V век до н.э. «Отца истории», Геродота, и древнегреческих философов, посещавших Древний Египет как до, так и после него, – «о приоритете египтян в создании учений о бессмертии человеческой души…»
Эти свидетельства имеют дополнительное и ни менее весомое подтверждение исконной веры египтян в переселение души, выраженное в исключительном влиянии этой парадигмы религиозного мышления на формирование благочестивого образа египетского народа:
«Геродот и другие античные авторы подтверждают сложившееся у нас впечатление, называя египтян самым благочестивым из всех народов». Ян Ассман. (6)
О чем и пойдет речь далее.
1. Парадигма религиозного мышления проторелигии долины Нила
«Религиозные воззрения египтян возникли и развивались задолго до объединения Египта». М.А. Коростовцев
Вера в переселение души была исконной верой населения нильской долины, т.е. универсальной для всех без исключения номовых политеистических религии с их многообразием богов, что и позволяет её идентифицировать в качестве парадигмы религиозного мышления. В свою очередь, совокупность всех номовых религий, объединенных единой парадигмой религиозного мышления, и позволяет вести речь о проторелигии нильской долины и её парадигме религиозного мышления, универсальной испокон времен для всего населения долины Нила.
Парадигма религиозного мышления проторелигии нильской долины некогда была единственной в составе доктрины бессмертия человеческой души, являясь исконной для религиозной культуры человечества «на этапе его младенчества», когда сказочная мифология богов, управляющих стихийными силами природы, визуализировалась в религиозном сознании людей наиболее гармоничным и естественным образом.
Являясь исконной и единственной парадигмой религиозного мышления доктрины бессмертия человеческой души на этапе становления первых государственных образований в нильской долине – номов, она также являлась единственно способной реализовать в египетской цивилизации высшее в этическом плане предназначение доктрины бессмертия человеческой души, прививая верующим в переселение души глубину и душевную искренность (духовные качества) в восприятии моральных и нравственных нормам поведения в социуме своего нома. Чему и соответствовало желание египтян «прожить жизнь с Маат в сердце»(3), ведя благонравный и законопослушный образ жизни, что находит подтверждение в свидетельствах Геродота и других античных авторов о египетском народе, как «о самом благочестивом из всех народов», соответствуя и представлениям Яна Ассмана, написавшего об этом в книге «Египет: теология и благочестие ранней цивилизации».
Такая отличительная особенность этой парадигмы религиозного мышления связана с тем, что,
во-первых, она не обременена меркантилизмом, в отличие от своей альтернативы – веры в вечную загробную жизнь,
а во-вторых, что ни менее важно, предопределяя собой отсутствие меркантилизма, она не предполагает существование бога, к которому следовало бы взывать о прощении грехов ради лучшей доли в следующей (жизни) реинкарнации.
Этическая безупречность этой парадигмы религиозного мышления предопределена присущей ей беспристрастностью по отношению к жизни человека: его деяния – добрые и злые, неизбежно повлияют на последующую его участь как в потустороннем (загробном) мире, так и в следующей реинкарнации в подлунном мире.
Следовательно, в ней полностью отсутствуют коррупционноёмкие лазейки, позволяющих «Злу пиршествовать на бале у Добродетели», в чем и заключается смысл разделения потустороннего существования душ на подобие ада и рая.
Свойственные для проторелигии нильской долины представления об этих двух «ареалах» потустороннего существования души, в каждом из которых «воздавалось душам по их заслугам», никоем образом не противоречат вере в переселение души, поскольку интервал времени потустороннего существования души хоть и был неведом, тем не менее не был бесконечен, завершаясь очередным воплощением души в тело, в частности, человека. Поэтому для этой парадигмы религиозного мышления совершенно не было свойственно излишне акцентировать внимание на условиях потустороннего существования души, в чем и состояло её исключительно позитивное влияние на все происходившие в социуме процессы, повлекшие за собой улучшение условий жизнедеятельности представителей рода человеческого (и не только) в подлунном мире.
В свою очередь, земная жизнь, как результат очередной реинкарнации души, становится ареной конкурентного сосуществования выходцев из этих двух «ареалов» потустороннего существования человеческих и иных душ, предполагая слияние этих двух потоков в условиях материального мира человеческого бытия.
Так что грядущая судьба, как и врожденные качества человека в следующей реинкарнации, целиком зависят от его жизненных установок и способов их реализации в текущей жизни, мерилом чему служат этическим устои социума. В свою очередь, врожденные качества человека и его жизненные установки являются результатом их наработок в предыдущих реинкарнациях, в чем и проявляется эволюционный процесс развития души, ответственной в человеке за его врожденные качества характера и способности…
Рис 5. Психостасия .
.
Потусторонний «механизм реализации» переселения души, как и наследование ею результатов совершенствования навыков, приобретенных в минувшем воплощении, не предполагает какого-либо стороннего (корыстного) вмешательства, искажающего тем или иным образом универсальный закон Маат проторелигии Египта: «воздаяние добром за добро и злом за зло», реализованный в религиозном сознании египтян посредством представлений о потустороннем «суде Маат», с его единственной процедурой судопроизводства – «взвешивание сердца», психостасия.
«Особое место в представлениях древних египтян занимало сердце. Оно считалось вместилищем человеческого сознания, как бы самостоятельным существом внутри человека. Сердце рассматривалось как нечто наиболее осведомленное о человеке и его жизни». (3)
«В египетской религии и мифологии имеются божества, воплощающие то или иное абстрактное понятие, но никогда не являвшиеся, по-видимому, локальными божествами. Прежде всего следует упомянуть богиню Маат.
В египетском языке «маат» обозначало сложное, синтетическое понятие, объединяющее понятия: «правда», «истина», «правопорядок», «этическая норма», «божественное установление» (в природе и среди людей), «религиозные и нравственные устои» и т. п.
«Маат – это надлежащий порядок в природе и обществе, который установил творец, а посему все, что правильно и точно; вместе с тем это закон, порядок, справедливость и правда».
Тексты, в которых фигурирует богиня Маат, свидетельствуют о том, что она является обожествленным эквивалентом указанного синтетического абстрактного понятия». (3)
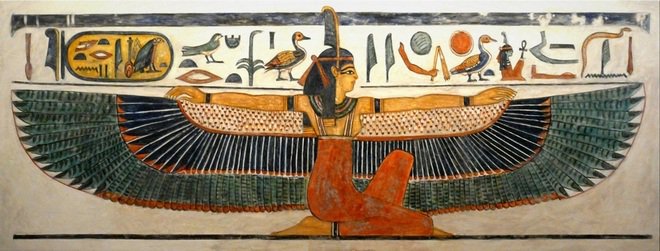
Рис 6. Маат
В религиозном сознании населения нильской долины, сообразно его исконной приверженности к проторелигии, почитание богини Маат было всеобщим, что и стимулировало искреннее желание египтян «прожить жизнь с Маат в сердце» (3), подразумевая под собой их надежду по итогам жизни на оправдательный вердикт «суда Маат», суливший перспективами как «удовлетворительных условий бытия» в потустороннем мире, так и улучшением исходных условий жизни в следующей реинкарнации. Тенденция улучшения условий жизнедеятельности в каждой последующей реинкарнации предопределена для приверженцев этой парадигмы религиозного мышления.
Проторелигия долины Нила оставалась религией династии царей Нижнего Египта с их столицей в Гелиополе вплоть до упразднения этой династии, вследствие объединения Египта под властью царя Верхнего Египта (31-30 века до н.э.), отдавшего предпочтения религии Осириса. Тем не менее Маат, уподобленная дочери главного бога Гелиополя, Атума, а после объединения Египта – бога Ра (Ра-Атум), пользовалась столь же высоким авторитетом при дворе царя Верхнего и Нижнего Египта, невзирая на то, что религия Осириса стала, фактически, элитарной религией династии фараонов, о чем свидетельствуют величественные пирамиды эпохи Древнего царства.
«Авторитет Маат особенно возрос в конце эпохи Древнего царства. Богиня была поставлена в непосредственную связь с богом Ра как его дочь. А поскольку бог солнца (начиная с V династии) становится верховным богом – покровителем царей, их «отцом», постольку Маат во всех своих аспектах символизирует божественное установление, правильность жизненных устоев и нравственных принципов.
Концепция Маат составляет основное звено египетской этики.
Везиры, начиная с V династии, считались жрецами Маат; судьи в более позднее время носили на шее на цепочке ее изображение. В крупных храмах, и, в частности, в храме в Дейр-эль-Медине, соблюдался культ Маат.
Фараон, как сын бога и представитель богов на земле, должен был охранять Маат – правопорядок. В иконографии Маат изображалась в виде женщины со страусовым пером на голове». (3)
Поэтому даже во времена Древнего царства почитание культа Маат являлось решающим фактором для сохранения приверженности фараонов и их придворной знати к этическим устоям египетского общества, невзирая на деятельность жрецов заупокойного культа религии Осириса, ещё необремененных по тем временам «излишним» корыстолюбием, что позволяло им «довольствоваться» немалыми вознаграждениями «за свою эксклюзивную заботу о благоденствии» фараонов в вечности их потустороннего существования в обществе главных богов династии фараона. В этом и состоял смысл первого (исходного) этапа в развитии заупокойного культа жрецов религии Осириса, соответствующего «первому периоду истории египетской религии», по версии О.Р. Тіеlе.
Таким образом, деятельность жрецов заупокойного культа религии Осириса во времена Древнего царства ещё не оказывала того растлевающего влияния на своих адептов, дискредитирующего в их религиозном сознании этических устоев общества, которое последовало после завершения этой эпохи – на следующем этапе развития уже заупокойного бизнеса жрецов религии Осириса.
Причина избыточного числа процедур судопроизводства загробного суда Осириса
И совершенно неслучайно дельцы заупокойного бизнеса религии Осириса, начиная с времен Среднего царства стали использовать в своих целях единственную на тот момент процедуру загробного суда проторелигии, основанного на нравственных принципах, упоминание о которой присутствует в «Текстах саркофагов»:
 Рис 7. Психостасия.
Рис 7. Психостасия.
«В дальнейшем, начиная с Первого переходного периода, удельный вес элементов этики в заупокойных текстах становится все более значительным. … В этих текстах («Текстах саркофагов») нет еще развернутой картины загробного суда, как в знаменитой 125-й главе «Книги мертвых», но развитие идеи загробного суда явно намечено».
«В «Текстах саркофагов» уже упоминается психостасия (взвешивание сердца) как способ определения нравственного облика человека в его земной жизни». (3)
И уже ко временам Нового царства, создавая собственную концепцию загробного суда, жречество Осириса позаимствовало из проторелигии Египта представления о процедуре «взвешивания сердца» под эгидой богини правды и справедливости Маат, включив её в свою концепцию, исключительно, с целью вовлечения в число адептов своей религии мало-мальски состоятельных египтян, ранее, традиционно, придерживавшихся проторелигии Египет.
Безупречная в этическом плане процедура загробного суда проторелигии Египта вошла в концепцию загробного суда жречества Осириса наряду с двумя коррупционноёмкими процедурами судопроизводства, явившихся детищем дельцов заупокойного бизнеса – «произнесение усопшим исповеди отрицания» («негативной исповеди») перед двумя составами загробного судилища:
«Умерший, ссылаясь на знание имен судей, делает их для себя безопасными и превращает свои оправдания в магические формулы, заставляющие признать его невиновность». (3)
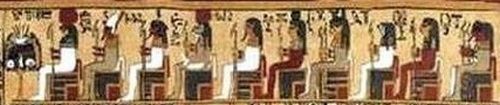 Рис 8. Первый состав богов загробного судилища.
Рис 8. Первый состав богов загробного судилища.
«В 125-й главе «Книги мертвых» приводится описание процедуры загробного судопроизводства, основанной на произнесении «негативной исповеди» подсудимым перед двумя составами богов судилища царства мертвых:
«Покойный входит в чертог Правосудия и произносит сначала пред Ра и его Эннеадой … речь, в которой уверяет, что он не творил таких–то и таких–то грехов, потом делает то же перед 42 судьями, из которых каждый ведает особым грехом». (3)

Рис 9. Второй состав богов загробного судилища.
В результате, концепция загробного суда Осириса ко временам Нового царства была представлена в 125-й главе «Книги мертвых» аж тремя процедурами загробного судопроизводства, две из которых были детищем дельцов заупокойного бизнеса – коррупционноёмкие, а в качестве третий процедуры была использована психостасия, пользовавшаяся исключительным доверием среди подавляющего большинства египтян, из среды которых жрецы Осириса и пытались «завербовать посулами загробного счастья» мало-мальски состоятельных египтян в число адептов своей религии.
В очередной раз можно поразиться незаурядностью менталитета апологетов религии Осириса от египтологии, воспринимающих как должное присутствие аж трех независимых друг от друга процедур судопроизводства в концепции загробного суда религии Осириса. Им даже не приходит в голову банальная мысль как-либо обосновать столь избыточное число процедур судопроизводства, две из которых – коррупционноёмкие, соответствовали целям процветания заупокойного бизнеса, а третья как-то не вписывались в общую картину, представляя собой какой-то «инородный предмет в интерьере» заупокойного бизнеса религии Осириса.
Роль психостасии в качестве «инородного предмета…», предназначенной лишь для целей вовлечения в число адептов религии Осириса мало-мальски состоятельных египтян из среды приверженцев проторелигии Египта, и служит подтверждением тому, что вера в переселение души была исконной верой населения долины Нила, чему египетская цивилизация и обязана возникновением концепции Маат, «составлявшей основное звено египетской этики».
Сказки, подобные сказке о Са-Осирисе, изобличали аморальную деятельность дельцов заупокойного бизнеса, дискредитируя значимость двух коррупционноёмких процедур судопроизводства, придавая исключительную важность для суда Осириса третьей процедуре – психостасии.
Диссидентство в отношении элитарной религии Осириса, нравственно растлевавшей своих адептов посулами счастья и богатства в вечности их загробной жизни, проявлялось в египетском обществе посредством сказок, подобных «Сказке о доле богача и бедняка в царстве мертвых Осириса».
Эта сказка была предназначена для адептов религии Осириса, изобличая лживость посулов дельцов заупокойного бизнеса «о средствах достижения богатства и счастья в загробной жизни» иными путями, нежели праведностью и добродетельными поступками при жизни претендента на привилегии в потустороннем мире. Этот диссидентский тезис присутствует в сказке в качестве назидательного наставления Са-Осириса своему отцу:
«Смотри, отец мой Сатни! Их души приходят на суд царства мертвых, и, если они творили добро на земле, здесь воздают им добром, но если они творили зло, здесь воздают им злом.
Так ведется извечно и не изменится никогда». (3)
И совсем неудивительно, что Са-Осирис, представленный в роли сына главного героя сказки, Сатни-Хемуаса, был реинкарнацией «умершего полторы тысячи лет назад знаменитого колдуна и волхва», что подразумевает под собой принадлежность авторов этой сказки к последователям проторелигии Египта с её верой в реинкарнацию и переселение души:
«В заключение сказки говорится о том, что этот мальчик был не кто иной, как умерший полторы тысячи лет назад знаменитый колдун и волхв, снова посланный жить на землю самим царем мертвых, богом Осирисом».
Сама же сказка предназначена для адептов религии Осириса, развенчивая иллюзорные упования Сатни-Хемуаса разделить судьбу богача в царстве мертвых, какой она ему представлялась под влиянием лживых посулов дельцов заупокойного бизнеса, обнадеживавших богатых египтян перспективами оправдательного вердикта загробного суда, вне зависимости от их прижизненного нравственного облика.
Мнение М.А. Коростовцева о значимости в истории религиозной жизни человечества приоритета египтян в создании концепции загробного суда, основанного на нравственных принципах:
«Возникновение идеи загробного суда, основанного на нравственных принципах (даже при возможности магического воздействия на суд со стороны подсудимого), несомненно, очень значительное явление в истории религиозной жизни человечества.
И именно египтянам принадлежит, по-видимому, приоритет в этом». (3)
И действительно, египетской цивилизации принадлежит приоритет в создании представлений о загробном суде, основанном на нравственных принципах, однако этот приоритет принадлежит жречеству богов проторелигии долины Нила с её парадигмой религиозного мышления, остававшейся на протяжении многих веков додинастического периода развития этой цивилизации (10-15 веков) единственной в религиозной культуре населения долины Нила. Поэтому представления о концепции Маат пустили за эти века глубокие корни в религиозном сознании населения нильской долины, стимулируя искреннее желание египтян «прожить жизнь с Маат в сердце», что в конечном итоге и отразилось на восприятии египтян античными авторами, отождествлявшими египетский народ с «самым благочестивым из всех народов».
В то время как смысл текста, выделенного скобками из приведенной выше цитаты М.А. Коростовцева – «(даже при возможности магического воздействия на суд со стороны подсудимого)», имеет отношение уже к альтернативной парадигме религиозного мышления, взятой на вооружение дельцами заупокойного бизнеса, в чем и проявилось их аморальное влияние, обесценившее нравственные принципы загробного суда религии Осириса. Её тлетворное влияние, девальвирующее значимость моральных и нравственных устоев египетского общества, и отметил с прискорбием М.А. Коростовцев:
«Так были уничтожены высокие приобретения нравственного порядка, и Книга Мертвых оказывается свидетельством и об их наличности, и об их печальной судьбе». (3)
Проторелигия долины Нила в истории развития египетской цивилизации
Исключительная ролью этой парадигмы религиозного мышления в истории становления ранних цивилизаций связана с тем, что для веры в переселение души период её потустороннего существования априори большого значения не имеет. Следствием чего и является присущая последователям этой парадигмы религиозного мышления ЗАБОТА об улучшении условий жизнедеятельности людей в подлунном мире(!), в чем и усматривается единая направленность деятельности религиозных центров всех номов долины Нила. Эта забота реализовывалась результатами совместной деятельности светской власти номарха и жречества религиозного центра нома, что было присуще всем номам нильской долины.
Речь идет о социализированном сообществе людей уровня интеграции жителей нома, представленного совокупность многих десятков племен, а, отнюдь, не о масштабе численности отдельного небольшого племени. Тем не менее и в масштабах одного племени его служитель культа единолично исполнял всю совокупность возложенных на него обязанностей, в прямом смысле проявляя заботу о всех аспектах жизнедеятельности племени: исцеляя хворых, взывая к богам об удаче в охоте и об избавлений от всяческих напастей, временами нарушавшими традиционный уклад жизни племени, и т.п. В то время как на вожде племени лежали обязанности по организации жизнедеятельности вверенных его власти соплеменников.
Квазифракталы
Стереотип целесообразности в организации управления людьми в масштабе численности одного племени, подразумевающий под собой взаимодействие вождя и служителя культа во благо всему племени, был универсален для проторелигии Египта. Нечто подобное можно наблюдать в большем масштабе – в организации управления населением нома, где все аспекты реализации власти вождя племени уподоблены деятельности административного аппарата главы светской власти нома, а функционал обязанностей служителя культа племени возложен на жречество религиозного центра нома. При этом совершенно не упразднялась роль входивших в состав нома вождей отдельных племен, посредством их включения тем или иным образом в состав администрации номарха, что в полной мере соответствует и роли служителей культа племен, вошедших в состав коллегии религиозного центра нома.
Нечто подобное наблюдается и при организации управления в ещё большем масштабе – объединение номов под властью царя Нижнего Египта с его столицей в Гелиополе, в которой столичный религиозный центр устанавливал приоритеты верховного бога династии царей Нижнего Египта, не ущемляя при этом достоинства главного бога каждого из номов, входивших в состав царства Нижнего Египта, что и предопределило правомерность номового религиозного сепаратизма. Нечто подобное было присуще и организации власти царей Верхнего Египта…, а впоследствии и организации управления единой державой Древнего Египта…
Этот стереотип организации управления, в частности, царством Нижнего Египта, подобный организации управления каждого из его многочисленных номов, во благо жизнедеятельности населения этих территорий, можно уподобить понятию о фракталах как о множестве, обладающим свойством самоподобия.
Для идеального абстрактного фрактала увеличение или уменьшение масштаба не ведёт к упрощению структуры, то есть на всех уровнях можно увидеть одинаково сложную картину. В то время как встречающимся в природе неидеальным фракталам (квазифракталам) «свойственна неполнота и неточность повторения структуры».
 Рис 10. Фрактальная форма кочана капусты романеско.
Рис 10. Фрактальная форма кочана капусты романеско.
Таким образом, стереотип взаимовыгодного сотрудничества ещё в масштабах отдельного племени его вождя и служителя культа, совместно действующих во благо всему племени, стал своеобразным элементом квазифрактала, который на каждом последующем этапе укрупнения сообщества племен вплоть до уровня образования ещё независимых номов, воспроизводил или дублировал себя в большем масштабе. Тоже самое происходило и уже на уровне интеграции номов в составе двух ещё независимых царствах Верхнего и Нижнего Египта, завершаясь самым крупным по размерам квазифракталом в масштабе организации управления единой державы Древнего Египта.
И более того, пример с организацией взаимодействия вождя и служителя культа отдельного племени не является самым малым элементом квазифрактала, поскольку и жизнедеятельность любого человека, пекущегося о своем благополучие, подразумевает под собой взаимодействие его внутренних ресурсов аналогичным образом: уповая не только на свою физическую силу, что уподобляется надеждам номарха на своё воинство, но и взывая о помощи Свыше, чем порой грешат даже самые отъявленные атеисты в критических для жизни и здоровья ситуациях, уподобляясь в этом отношении жречеству религиозного центра нома.
В самом же организме человека и животных также присутствуют примеры квазифракталов – система кровообращения и бронхи.
Закономерности становление многочисленных номов в долине Нила
Изначально, когда плотность населения долины Нила была относительно небольшой, условно, в начале VI тысячелетии до н.э., оно было представлено разрозненными племенами, внутренний уклад жизни которых был единообразен и основан на взаимовыгодном сотрудничество вождя и служителя культа племени, призванных совместными усилиями способствовать процветанию жизнедеятельности своего племени, что вполне очевидно.
В противном случае, племя могло «высказать вотум недоверия» вождю (или служителю культа) всеобщим голосованием – взбунтовавшись, переизбрание которого отмечалось дружными плясками и посиделками вокруг костра в процессе поедания поджаренных на нем частей тела «вышедшего в отставку» вождя племени.
Вот насколько было важно для вождя племени и служителя культа проявлять заботу о благополучии своих соплеменников, что и обуславливало их взаимовыгодное сотрудничество.
Так что демократическая процедура переизбрания нерадивого вождя племени существовала ещё в условиях неолита, сохраняя свою актуальность во все периоды истории человечества. Подобный стереотип восприятия обязанностей «вождя» присутствует в сообществе различных групп людей, объединенных едиными целями, что относится и к демократическим выборам, в частности, предводителя пиратов командой его судна, при необходимости имевшей возможность его низложить, выбрав и утвердив на его место наиболее авторитетного человека из своей среды. Вожак или вождь должен руководствоваться, прежде всего, проявлением заботы о благополучии вверенных его власти людей или народа, что, преимущественно, было прерогативой парадигмы религиозного мышления проторелигии Египта – веры в переселение души.
По мере увеличения плотности населения в долине Нила, заселявшим её племенам (мигрировавшим с необъятных просторов Северной Африки в период усыхания климата) приходилось как-то приспосабливаться к совместному сосуществованию в стесненных условиях долины Нила, преодолевая периоды междоусобных распрей, в конечном итоге уступая силе заключать мирные соглашения, тем самым укрупняя территорию, находившуюся под контролем главы объединения племен.
Укрупнение территории, подвластных главе объединенных племен, позволяло осуществлять более масштабные проекты их экономического развития, реализация которых силами одного племени была бы непосильным бременем для него. Например, проведение масштабных работ по мелиорации сельскохозяйственных угодий по берегам Нила с целью сбора высоких урожаев, что в конечном итоге благоприятно отражалось на развития всех сфер социальной жизни такого крупного объединения племен.
По мере дальнейшего укрупнения территории, находящейся под его управлением, за счет поглощения территорий, освоенных соседними племенами или объединениями племен, происходила дальнейшая централизация власти при увеличении численности подконтрольного ей населения, что и предопределило образование номов в долине Нила как ещё независимых государственных образований, развивавшихся на определенном этапе своего становления в условиях самоизоляции.
Экспансия захвата каким-либо воинственным племенем или объединением племен смежных территорий предполагала поэтапный характер подобной деятельности, подразумевавший под собой насущную для завоевателя необходимость длительного перерыва перед следующей экспансией (это и предопределяло условия самоизоляции), дабы закрепить свою власть на завоеванных территориях не столько силой принуждения и насилия, сколько достижением ненасильственными методами лояльности населения вновь присоединенных территорий.
И уже в масштабах любого из развивавшихся обособленно номов, вожди племен и главы племенных сообществ, проявлявшие лояльность к власти номарха, тем или иным образом включались в состав светской администрации нома, позволяя совместными усилиями населения нома реализовывать более глобальные экономические и иные проекты, улучшавшие как условия жизнедеятельности населения нома, чему способствовало развитие разных ремесел, так и усилению его обороноспособности… В конечном итоге, преследуя цель единения жителей нома перед лицом любых угроз, исходивших из вне, включая потенциальную возможность продолжения экспансии по присоединению смежных территорий во благо населению своего нома, что позволяло реализовывать ещё более масштабные проекты экономического развития территории нома.
В свою очередь, на этапе формирования нома, объединяющего не один десяток племен, служители культа этих племен также кооперировали свои усилия, как и вошедшие в администрацию номарха вожди племен, и те и другие преследуя цели выживания в наиболее комфортных условиях для своего племени в составе единого государственного образования, нома, что и было предопределено единой для служителей культа племен парадигмой религиозного мышления.
Проторелигия долины Нила предопределяла объективный процесс становления социальной среды в каждом из номов, основу которого и составляли универсальные в своей массе этические устои общественной жизни, «извечно установленные богом-творцом окружающего мира, центром которого в представлениях жречества каждого нома и был их ном». Этим стереотипом религиозного мышления, общим для жречества всех номов, и был предопределен религиозный сепаратизм номов, сохранявший свою актуальность на всем протяжении существования Древнего Египта.
Единая для всех номовых религий парадигма религиозного мышления благоприятствовала такому крайне важному явлению в религиозной жизни её приверженцев как ВЕРОТЕРПИМОСТЬ! Этот фактор и способствовал мирному сосуществованию как многочисленных племен в составе нома, так и многочисленных номов в составе объединенного государства, образованию которого предшествовал длительный процесс объединения номов под властью царей Верхнего и Нижнего Египта.
В конечном итоге за несколько веков до завершения IV тысячелетия до н.э. сформировались два могущественных царства в долине Нила – царства Верхнего и Нижнего Египта, каждое из которых просуществовало в этом статусе несколько столетий. Столь длительный период обособленного существования двух царств – это далеко не вымысел, поскольку лишь подобное «предположение» может объяснить титул царя объединенного Египта как царя Верхнего и Нижнего Египта, подчеркивая былое могущество каждого царства в отдельности, о чем могла идти речь лишь при условии весьма длительной истории существования каждой из этих двух держав.
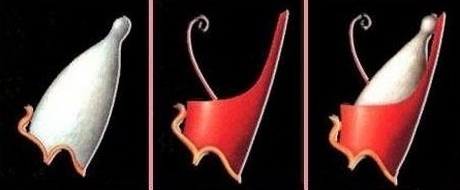 Рис 11. Символы царской власти.
Рис 11. Символы царской власти.
Титул царя Верхнего и Нижнего Египта визуализировался посредством объединения символов власти – высокой белой короны царей Верхнего и красной короны царей Нижнего Египта.
Все перечисленные выше особенности проторелигии Египта обусловили единую направленность деятельности религиозных центров и светской власти по улучшению условий жизнедеятельности жителей своих номов, благодаря прогрессу в освоении экономических ресурсов территорий каждого из номов, чему стало залогом развитие прикладных наук в религиозных центрах каждого из номов.
И к моменту образования двух царств Верхнего и Нижнего Египта в каждом из них произошла консолидация научного потенциала многочисленных номов на уровне столичных религиозных центров каждого из двух царств. В свою очередь, консолидация научного потенциала этих двух царств произошла уже в столичном религиозном центре объединенного Египта, что тем не менее не препятствовало традиционному развитию прикладных наук, включая медицину, в каждом из номовых религиозных центрах.
Достижения египетской науки и медицины – достояние жречества проторелигии Египта
Парадигма религиозного мышления проторелигии Египта предопределила единую направленность деятельности жречества номовых богов и, в целом, религиозных центров всех номов, на решение важных для жизнедеятельности египтян проблем, с которыми им приходилось сталкиваться в своей профессиональной и повседневной жизни – болезни, голод, холод, смертельные опасности и т.п., угрожавшие их здоровью и самой жизни, которая и является приоритетной в контексте веры и переселение души в подлунном мире!
Столь значимая для становления ранних цивилизаций особенность парадигмы религиозного мышления (проторелигии долины Нила) стимулировала развитие в номовых религиозных центрах, в первую очередь, медицины и других прикладных наук, оказывавших свое благотворное влияние на перспективы улучшения условий жизнедеятельность и здоровья египтян как в текущей, так и в каждой их последующей реинкарнации (в подлунном мире).
Этим целям в любой из номовых религии служила иерархия местных богов, каждый из которых «покровительствовал» какой-то своей сфере жизнедеятельности населения нома (возможно и не одной), пользуясь заслуженным их почитанием и подношениями ему в собственном храме, чему всемерно способствовала деятельность жрецов храма, также специализировавшихся в этой сфере «оказания услуг» жителям нома, не только посредством совершения тех или иных ритуальных действий, взывая о помощи своего бога, но и пытаясь решать сугубо прикладные задачи, «входившие в сферу Его компетенции».
Присущая проторелигии долины Нила иерархия богов в каждой из номовых религий имела на редкость рациональную основу(!), отражая собой закономерности устройства общественной жизни нома, с её иерархией светской власти. Это было обусловлено тем весьма банальным обстоятельством, весьма далеким от своего осмысления апологетами религии Осириса, что процессы длительного по времени становления социальной среды нома с её иерархией светской власти номарха и богов его религиозного центра, происходили взаимно обуславливая друг друга, в своих истоках уподобляясь совместной деятельности вождя и служителя культа племени.
В конечном итоге, олицетворением власти номарха стал главный бог нома (государства), благодаря деятельности его жрецов, усердно подтверждавших различными ритуалами легитимность верховной власти номарха, что порой было сопряжено ещё и с какими-либо смежными направлениями деятельности жрецов при храме главного бога. Например, «верховный жрец бога Пта в Мемфисе носил титул «великого начальника ремесленников» (3), а это подразумевало под собой соответствующую этому титулу специализацию деятельности жрецов при храме бога Пта, связанную с развитием прикладных наук, востребованных в многообразных сферах применения ремесленного мастерства: математика, геометрия, мера длин и весов, элементы архитектуры и много пр.
В то время как, в частности, заботы о здоровье жителей нома находились в компетенции одного или нескольких номовых богов, например, «верховный жрец богини Бастет в Бубасте носил титул «великий врачеванием» (3). И вполне закономерно, что «клир» верховного жреца богини Бастет специализировался на развитии сферы разнообразных медицинских услуг по исцелению различных недугов населения своего нома.
Так что развитие сферы медицинских услуг и, в целом, медицины как науки египетской цивилизации происходило ещё на этапе становления её многочисленных номах – за 10-15 столетий до объединения Египта на рубеже IV-III тысячелетия до н.э., именно, в среде жречества богов проторелигии долины Нила, в приоритете для которых была забота о здоровье и продолжительности жизни своих современников в подлунном мире.
Этот приоритет, касавшийся жрецов-врачевателей многочисленных номовых религиозных центров, дополнительно подразумевал под собой ещё и вполне закономерный процесс влияния прогресса в развитии медицины, как результата их деятельности в текущем воплощении, на перспективы вполне закономерного улучшения в отдаленном будущем качества и эффективности оказания медицинских услуг. Что касалось и участи самих жрецов-врачевателей, таким образом трудившихся во благо сохранения здоровья и жизни не только своих современников, совершенствуясь в своем ремесле, но и будущих поколений, в число которых они и сами могли войти в своей последующей реинкарнации.
Поэтому этот аспект их деятельности на отдаленную перспективу прогресса в развитии медицины как науки, не пропадал для них даром в связи с тем, что в последующем своем воплощении они и сами могли воспользоваться плодами своих трудов минувшего воплощения в развитии медицины и как пациенты, что немаловажно было для их собственного здоровья и жизни, и в качестве жрецов-врачевателей, возобновляя в очередной реинкарнации профессиональную деятельности в своей сфере оказания медицинских услуг. Что и подразумевает под собой наследование приобретенных в текущем воплощении профессиональных навыков, в частности, в сфере медицины, из воплощения в воплощение постоянно совершенствуясь в своей профессиональной деятельности.
Именно подобный процесс усовершенствования профессионализма жрецов-врачевателей в каждом из многочисленных воплощений, предопределяя собой их врожденную предрасположенность к этой сфере деятельности, и является причиной появления «талантливых самородков» в медицине, каковыми и были многочисленные их легендарные представители у разных народов. Упоминание о наиболее известных из них присутствует в книге В.В. Ребрика «Древнеегипетская магия и медицина», приведенные ниже цитаты из которой и свидетельствуют о высоком уровне развития египетской медицины как науки. Все они на протяжении многих реинкарнаций специализировались в сфере оказания медицинских услуг, совершенствуя свои навыки, что и является прерогативой души человека в контексте доктрины бессмертия человеческой души в череде её перевоплощений в подлунном мире.
Свидетельство о врачебной практике жреца богини Сохмет эпохи Среднего царства:
«Другая надпись, эпохи Среднего царства, информирует нас о врачебной практике. Ее левая часть гласит: «Я был жрецом богини Сохмет, сильным и опытным в своей профессии, возлагающим руку на пациента и поэтому знающим его состояние, опытным в исследовании при помощи руки…» (9)
* * * * *
Жречество богов проторелигии долины Нила было уподоблено в Христианстве язычникам, со всеми вытекающими для них последствиями в христианском мире, в связи с чем следует упомянуть ещё и о народных целителей, потомственных знахарях, оказывавших медицинскую помощь, утрированно, ближайшему своему окружению без каких-либо лицензий на медицинскую практику, и по весьма умеренным «расценкам». Эти потомственные знахари совершенно неслучайно имели врожденные способности понимать «язык природы» – хорошо разбираясь в лекарственных травах и снадобьях. Поэтому они и оказывались зачастую куда более квалифицированную помощь своим пациентам, в чем и составляли конкуренцию дипломированным лекарям средневековья и, условно, по XIX век, имевшим лицензию на врачебную практику, как и более высокие расценки на свои медицинские услуги.
Относительно невысокий процент «талантливых целителей», прославивших себя в истории медицины, имеет столь же простое объяснение, связанное с доминировании консерватизма в этой области знаний, который превращает лекарей в посредственных ремесленников, зачастую без душевного трепета относящихся к своему ремеслу, что и характерно для большинства представителей этой благородной профессии. Они так и остаются ремесленниками из воплощения в воплощение, не меняя своего отношения к своему хорошо оплачиваемому «призванию», что и привлекает шарлатанов в эту сферу деятельности, наносящих больше вреда своим пациентам чем пользы. А последнее уже в большей степени характеризует «академическую» медицину средневековой Европы вплоть до XIX века. Меркантилизм препятствует вовлечению душевных качеств в процесс совершенствования профессиональных навыков, пресекая на корню их поступательное развитие в череде перевоплощений в подлунном мире.
* * * * *
Таким образом, человечество обязано парадигме религиозного мышления проторелигии долины Нила развитием разнообразных наук, ориентированных как на прикладное их использование в целях улучшения условий жизнедеятельности населения нильской долины, так и на заботах о здоровье и продолжительности жизни египтян, о чем свидетельствуют высочайшие для своего времени достижения египетской цивилизации в развитии науки и медицины.
Медицина
Об истории развития медицины как науки ещё в додинастическом Египте пишет В.В. Ребрик в книге «Древнеегипетская магия и медицина»:
«Происхождение и эволюция профессии целителя восходит еще к доисторическим временам, она появилась раньше, чем земледелие и приручение домашних животных (о чем свидетельствуют шаманы, целители разных народов и т.д.). Собранные на протяжении многих тысяч лет наблюдения и опыт привели в историческую эпоху к возникновению медицины как систематической дисциплины, как науки. Как и многие другие достижения человечества, это впервые случилось в долине Нила и достигло наивысшего в древнем мире (до греческой эпохи) уровня развития в Египте. В начале египетской династической истории медицина была уже полностью сформировавшейся наукой. …
С самого начала истории Египет имеет зрелую систему медицины, содержащую систематическую патологию, четко сформулированную фармакопею, довольно большие знания анатомии и физиологии, обширную медицинскую литературу, четко определенную программу обучения медицине и большое искусство в области хирургии и травматологии.
Естественно, что наука, обладавшая таким высоким уровнем, не могла возникнуть в короткое время. От эпохи Гиппократа до современной медицины – 2400 лет, столько же – от Имхотепа до Гиппократа. Однако и Имхотепу (28 век до н.э.) предшествовало, вероятно, 1000-1500 лет развития медицины». (9)
* * * * *
Кстати, эти же 10-15 столетий, предшествовавшие объединению двух царств – Верхнего и Нижнего Египта на рубеже IV-III тысячелетия до н.э., столь же предположительно фигурируют в данном тесте в качестве продолжительного периода становления номов в долине Нила. Поэтому, как справедливо пишет М.А. Коростовцев: «Религиозные воззрения египтян возникли и развивались задолго до объединения Египта». В то время как «история египетской религии, по версии О.Р. Тіеlе», берет свое начало в качестве первого своего периода с времен Древнего царства, формально, отождествляясь апологетами религии Осириса от египтологии с историей религии Осириса, сообразно сопоставлению «трех первых периодов в истории египетской религии» (О.Р. Тіеlе) с заупокойными текстами трех книг: «Тестов пирамид», «Текстов саркофагов» и «Книги мертвых», отождествлявших собой соответствующий им этапы истории заупокойного бизнеса религии Осириса.
Так что первому периоду в истории религии Осириса предшествовали 10-15 столетий развития религиозных воззрений египтян, никоем образом не связанные с парадигмой религиозного мышления жрецов Осириса, чему египетская цивилизация и была обязана высочайшими для своего времени достижениями в развитии медицины и других прикладных наук.
* * * * *
Продолжим.
«Имхотепа называют «первой фигурой врача, четко возникающей из глубин античности» (Вильям Солер). Скорее, его можно назвать первым известным нам универсальным гением. В качестве визиря фараона Джосера (28 в. до Р.Х.) он был государственным деятелем первого ранга; в качестве автора проекта и строителя первого в мире большого каменного сооружения, ступенчатой пирамиды Джосера в Сакаре, он был одаренным архитектором; как автор мудрых изречений и притч он имел авторитет мудреца; а в качестве одаренного врача он впоследствии был обожествлен, став богом врачевания.
… примерно через 100-150 лет после его смерти третий царь 4 династии Мен-кау-ра (Микерин) уже почитал его в качестве целителя, а затем он в течение более 3 тысячелетий почитался в качестве покровителя и бога врачевания в своей стране и за ее пределами, а с 6 в. до Р.Х. был отождествлен греками с богом медицины Асклепием.
Существование Имхотепа и его отношение к фараону Джосеру засвидетельствовано статуей Джосера, найденной около ступенчатой пирамиды в Сакаре в 1926 г., на котором написано имя Имхотепа. … В этой надписи Имхотеп назван «главой работ южной и северной страны, правителем столицы и визирем, главным ритуальным врачом Джосера, царя Верхнего и Нижнего Египта, сыном Канофера, главы работ южной и северной страны». (9)
Достижения египетской цивилизации в развитии медицины оказали влияние на древнегреческих врачей, обучавшихся у египтян искусству врачевания:
«Папирус Эдвина Смита показывает, что хирургические, диагностические, прогностические и терапевтические знания египетских врачей середины 2 тыс. до Р.Х. были намного выше, чем знания греческих врачей тысячелетие спустя!
Не удивительно, что греческие врачи посещали Египет для обучения медицине.
Еще Гален, живший во 2 в., посетил храм Имхотепа в поисках медицинских знаний.
Прежде 6 в. до Р.Х. было построено несколько храмов, посвященных Имхотепу. Наиболее известный из них – храм Имхотепа в Мемфисе, который в античные время называли «Асклепейон». Он был так известен в качестве центра исцеления и медицинского знания, что там учились многие греческие врачи постгиппократовской эпохи, в том числе Гален, Феофраст и Диоскорид. Храм был расположен недалеко от другого знаменитого храма и центра целительства – Серапиума, посвященного богу Серапису, поэтому Имхотепа и Сераписа часто ассоциировали». (9)
Наука
О столь же выдающихся результатах в развитии иных наук в египетской цивилизации свидетельствуют многочисленные античные источники, повествующие об аналогичных целях посещения древнегреческими философами храмовых комплексов, в частности, Гелиополя, а впоследствии и Александрии, ставшей центром притяжения мужей науки многих народов:
«Греки рассказывают, что Солон, Пифагор, Платон, Евдоксий жили здесь (в Гелиополе) по несколько лет, изучая египетскую науку и философию». (4)
Древнегреческие философы по нескольку лет жили, в частности, в Гелиополе, постигая таинства египетской науки и философии, а впоследствии они и сами основали собственные школы философии, заложив основу для развитию европейской науки и философии. Это в полной мере относится к полулегендарному учёному и философу Фалесу Милетскому (VII-VI век до н.э.), основавшему Милетскую школу:
«Античная традиция причисляла Фалеса к «семи мудрецам». С их именами связывают рождение древнегреческой философии, а самого Фалеса называли её отцом».
По свидетельству греко-римского античного историка, географа и философа, Страбона (ок. 64/63 г. до н. э. – ок. 23/24 г. н. э.), лично посетившего Гелиополь, Платон несколько лет жил в Гелиополе, приобщаясь к тайнам научных и философских познаний гелиопольских жрецов:
«Из античных авторов лишь географ Страбон (ок. 64/63 г. до н. э. – ок. 23/24 г. н. э.) лично посетил Гелиополь и оставил заметку о нем:
«В Гелиополе я видел большие дома, в которых жили жрецы, ибо в древнее время, по рассказам, этот город как раз был кварталом жрецов, которые занимались философией и астрономией; теперь же это объединение перестало существовать и его занятия прекратились. …
Однако в Гелиополе нам показывали дома жрецов и школы Платона и Евдокса; Евдокс прибыл туда вместе с Платоном, и они оба, по словам некоторых писателей, провели 13 лет с жрецами».
На основании этих слов можно сделать вывод, что во времена Страбона Гелиополь находился в состоянии полного упадка. Совершенно иную роль играл этот город ранее». (3)
«Состояние полного упадка Гелиополя» к концу I тысячелетия до н.э., о котором пишет М.А. Коростовцев, вполне объяснимо и связано с переносом центра интеллектуальной жизни жрецов-философов, в частности, из Гелиополя в основанную в последней трети IV века до н.э. столицу Египта, Александрию.
Свидетельство автора «Анонимного географического трактата IV в. н. э. (34–37: сведения о Египте и Александрии)»:
«Во всяком случае, Египет преимущественно перед другими странами богат мужами, сведущими в науках. Ведь в его главном городе Александрии ты найдешь философов любого племени и любой школы. Когда между египтянами и греками возник спор о первенстве, египтяне признанные более глубокими и совершенными в мудрости, победили, и первенство было присуждено им.
И действительно, невозможно найти ни в одной области знания сведущего человека — не египтянина родом. Поэтому Египет всегда привлекал философов и мужей науки, которые отличались исключительной мудростью. Ведь они чужды какого бы то ни было шарлатанства; каждый из них доподлинно знает то, о чем говорит, и поэтому никто не берется за все, но каждый исполняет свое дело, украшая его ученостью».
Таким образом, египетская цивилизация обязана выдающимися для своего времени достижениями в развитии науки и медицины именно жречеству многочисленных номовых и столичных богов проторелигии долины Нила(!), с присущей ей верой в бессмертие души в череде её перевоплощений в подлунном мире, которая и предопределила приоритеты их деятельности.
Можно лишь с глубочайшим прискорбием по поводу печальной участи многих поколений населения Европы констатировать факт отождествления жречества богов проторелигии долины Нила в Христианстве с язычниками, последствия бескомпромиссной борьбы c которыми имели вполне закономерный результат – более десяти столетий религиозного мракобесия «Темного средневековья». Этому факту есть свое объяснение, о чем и пойдет речь далее.
Антагонизм между двумя жреческими сословиями религии Древнего Египта
Приоритеты жизнедеятельности египтян в подлунном мире, характерные для жречества номовых богов проторелигии долины Нила, предопределили единую направленность их деятельности при храмах своих богов, численность которых, в свою очередь, была обусловлена множеством аспектов жизнедеятельности египтян, каждому из которых (или их группе) покровительствовал тот или иной номовый бог. Следствием чего и стало, с одной стороны, развитие прикладных наук в качестве проявления заботы БОГОВ нома(!), при посредничестве их жрецов, об улучшении разнообразных аспектов жизнедеятельности населения своего нома, а с другой стороны, приоритетной стала забота аналогичной природы о здоровье и жизни египтян посредством развития сферы медицинских услуг, коль скоро для этой парадигмы религиозного мышления гораздо важнее земная жизнь людей в череде реинкарнаций в подлунном мире, нежели их посмертная участь в потустороннем мире.
Своими приоритетами жречество богов проторелигии долины Нила разительно отличалось от жрецов религии Осириса, отдавших свое предпочтение приоритетам «эфемерного благоденствия» адептов своей религии в вечности их загробной жизни, и не более того, а эта эфемерность и позволяла им «приторговывать местами» в раю, «сехет иару», царства мертвых своего бога… В конечном итоге, столь кардинальное различие во влиянии двух парадигм религиозного мышления на приоритеты жизнедеятельности своих приверженцев выразилось в непримиримом антагонизме между двумя жреческими сословиями, причин для усугубления которого было несколько, и о каждой из них речь пойдет отдельно.
Столь существенное различие между жрецами бога Осириса и жречеством других многочисленных номовых и столичных богов проторелигии долины Нила, не дискредитированных своей мифологической связью с богами из мифологии Осириса, совершенно беспардонно игнорируется единомышленниками Г. Кееса от египтологии, проецирующими на все жреческое сословие «египетской религии, по версии О.Р. Тіеlе» принадлежность к вере в вечную загробную жизнь в той же мере, в какой они совершенно необоснованно, как выяснилось ранее, проецируют эту веру на всех поголовно египтян, якобы исповедовавших её испокон времен.
Закономерным следствием преднамеренного искажения ими исторической реальности и религиозной культуры Древнего Египта становятся вводящие в заблуждение широкую общественность представления о том, что выдающиеся для своего времени достижения египетской цивилизации в развитии науки и медицины в среде жреческого сословия всецело приписываются достоянию парадигмы религиозного мышления религии Осириса – вере в вечную загробную жизнь, для которой жизнь и здоровье египтян в подлунном мире, как и этические устои египетского общества, не стоили и ломанного гроша! О чем и свидетельствовал их аморальный заупокойный бизнес, «отворявший врата рая, сехет иару» царства мертвых Осириса любому, кто прикупил перед смертью «Книгу мертвых», вне зависимости от его морального облика при жизни, будь им даже серийный убийца своих соплеменников.
И на этом примере в очередной раз можно убедиться в предвзятости апологетов веры в вечную загробную жизнь от египтологии, умышленно извративших в Науке, с большой буквы, представления об египетской религии, по всей видимости, не допуская возможности, посредством реалистичного её восприятия, дискредитировать «мнимые достоинства» своей парадигмы религиозного мышления, мягко говоря, не утратившей своего «эксклюзивного влияния» на восприятие её адептами этических устоев общества…
Суть этих заведомо ложных представлений об египетской религии (религии Древнего Египта) сводится к беспардонному игнорированию единомышленниками Г. Кееса присутствия в ней двух религий, кардинально отличавшихся по своему предназначению в египетском общества, в основе которых были совершенно разные парадигмы религиозного мышления, как раз и обусловившие диаметрально противоположные приоритеты деятельности жреческого сословия каждой из этих двух религий:
1) Проторелигия долины Нила (Египта) с соответствующей ей верой в бессмертие души в череде её перевоплощений в подлунном мире;
2) Религия жрецов Осириса с её верой в бессмертие человеческой души в вечности загробной жизнь в царстве мертвых.
Фанатичное желание скрыть от мировой общественности факт существования проторелигии долины Нила (Египта), как и её роли в развитии науки и медицины египетской цивилизации, и стимулирует деятельность единомышленников Г. Кееса, с превеликим усердием стремящихся не допустить признания в египтологии приоритета египтян в создании учений о переселении души. А вера, лежащая в основе этих учений, и была представлена парадигмой религиозного мышления проторелигии ещё за 10-15 веков до возникновения религии Осириса, что и пытаются столь же лицемерно скрыть апологеты религии Осириса от египтологии и академической науки.
Подобное положение в египтологии и академической науке, вполне закономерно, формирует совершенно ошибочные представления в общественном сознании о роли «религии» и «науке», что можно проиллюстрировать цитатой Н. К. Крупской, которую проводит в своей книге М.А. Коростовцев, предварительно совершенно справедливо обосновав влияние религии на мировоззрение людей и разнообразные аспекты их практической деятельности в условиях становления ранних цивилизаций:
«Религия – это первое мировоззрение человека.
Вполне понятно, что с религией теснейшим образом связаны первые шаги человека в любой отрасли знания и искусства, ибо и знание, и искусство были чисто эмпирические и над любой практической деятельностью человека господствовали религиозные воззрения.
«Когда-то наука совпадала с религией, – пишет Н. К. Крупская, – и только по мере того как наука отделилась от церкви и стала работать другими методами, другими способами, – только после этого получилась пропасть между религией и наукой...
Если мы посмотрим на Древний Египет, то там представители религии – жрецы – вели громаднейшие наблюдения метеорологического характера, знали, когда будет разлив рек, могли предсказать это; в области медицины и ряда естественных наук они также стояли на высоте достижений того времени»». (3)
Как видим, Н. К. Крупская, уподобляясь большинству её и наших современников, ошибочно отождествила представления о «религии» с Церковью, проецируя эти представления о «религии» на египетских жрецов: «представители религии – жрецы – … в области медицины и ряда естественных наук они также стояли на высоте достижений того времени».
Эта её ошибка и является закономерным следствием деятельности апологетов религии Осириса в египтологии, умышленно или по недомыслию (на выбор) скрывающих существование двух жреческих сословий в религиозной культуре Древнего Египта, приоритеты деятельности которых отличались самым кардинальным образом. В этом и проявлялось «подспудное» влияние, в частности, Римско-католической церкви на египтологов, занятых в сфере религиоведения, что существенно облегчало достижение Церковью своих целей в контексте исконной ненависти апологетов ортодоксального Христианства к представителям альтернативной парадигмы религиозного мышления – к язычникам, которые и были представлены, в частности, жречеством многочисленных богов проторелигии долины Нила, фигурирующим в цитате Н.К. Крупской.
Церковь ортодоксального Христианства, унаследовавшего парадигму религиозного мышления религии Осириса, с первых же веков своего становления испытывала лютую ненависть к язычникам, свидетельством чему и явилось разрушение их святынь и храмов начиная с IV века, в то время как в основе западной науки лежат заимствования древнегреческих философов достижений египетской цивилизации в науке, которым она была обязана деятельности жречества богов проторелигии долины Нила – тем самым язычникам. Поэтому и нет ничего удивительного в том, что между наукой и Церковью присутствует пропасть, как пишет об этом Н.К. Крупская, совершая очередную ошибку уже по поводу её относительно недавнего возникновения:
«только по мере того как наука отделилась от церкви и стала работать другими методами, другими способами, – только после этого получилась пропасть между религией и наукой...»
В то время как эта пропасть между двумя парадигмами мышления, по современным меркам – научным и «церковным», возникла ещё в Древнем Египте, представляя собой результат усугубления антагонизма между двумя жреческими сословиями, об одном из который и ведет речь Н.К. Крупская: «представители религии – жрецы…», а второе – было представлено жречеством религии Осириса, которое выпестовало в своей среде ортодоксальное Христианство, представленное в современном обществе Церковью. А о ней и упоминает Н.К. Крупская, ошибочно ассоциируя её терминологически с «религией», что и явилось причиной крайне нелепого её вывода, дескать, «наука отделилась от церкви».
Предвестницей развития науки и медицины в египетской и, в целом, человеческой цивилизации была именно парадигма религиозного мышления проторелигии Египта, в приоритете для жречества богов которой была Забота о улучшении условий жизнедеятельности своих современников, об их здоровье и самой жизни в подлунном мире, чему служит и в наше время по своему предназначению наука и медицина! Осмысление одного этого факта, вполне достаточно, чтобы отождествить представления о парадигме религиозного мышления жречества богов проторелигии долины Нила с парадигмой «научного» мышления, характерной для настоящих ученых, исключающих предвзятость и кампанейщину из приоритетов своей научной деятельности.
И не стоит придаваться иллюзиям, отождествляя такие понятия как «религия», «Церковь» и уж тем более «вера», поскольку эти понятия не тождественны. Церковь как институт христианской религии не является в полной мере синонимом религии, в отождествлении которых и совершала ошибку Н.К. Крупская. И уж тем более вера человека в нечто Сверхъестественное (божественное) в качестве так называемого «естественного богословия» – это глубоко личное его качество, далеко не всегда склоняющее его к той или иной религии, не говоря уже о готовности примкнуть к адептам той или иной церкви.
Следовательно, парадигма религиозного мышления жречества богов проторелигии долины Нила тождественна парадигме «научного» мышления настоящего ученого, не обделенного элементами «естественного богословия», чем, в частности, «грешило» подавляющее большинство выдающихся представителей западной науки эпохи Возрождения и последующих веков, возрождавших Науку в европейской цивилизации после тысячелетия с лишним религиозного мракобесия «Темного средневековья».
В свою очередь, религиозным мракобесием «Темного средневековья» европейская цивилизация была обязана исключительным доминированием в ней лишь одной парадигмы религиозного мышления, унаследованной Христианством от жрецов религии Осириса (!), что достигалось посредством гонений на представителей альтернативной парадигмы религиозного мышления, которой человечество и обязано достижениями в развитии науки и медицины, в частности, в среде жречества богов проторелигии долины Нила, включая философов и мужей науки иных народом:
«И действительно, невозможно найти ни в одной области знания сведущего человека — не египтянина родом. Поэтому Египет всегда привлекал философов и мужей науки, которые отличались исключительной мудростью. Ведь они чужды какого бы то ни было шарлатанства; каждый из них доподлинно знает то, о чем говорит, и поэтому никто не берется за все, но каждый исполняет свое дело, украшая его ученостью». (Анонимного географического трактата IV в. н. э. (34–37: сведения о Египте и Александрии))
Да и среди современных ученых мало кто является апологетом атеизма, поэтому парадигму научного мышления в полной мере можно уподобить парадигме религиозного мышления жречества богов проторелигии долины Нила, прославившего себя величайшими для своего времени достижениями в развитии науки и медицины. Именно они заложили основы для возникновения и развития науки и медицины западного мира через посредничество древнегреческих мужей науки.
В контексте этого факта вполне уместны справедливые слова М.А. Коростовцева о влиянии религии на мировоззрение, которые нуждаются в существенном уточнении:
«Религия – это первое мировоззрение человека.
Вполне понятно, что с религией теснейшим образом связаны первые шаги человека в любой отрасли знания и искусства, ибо и знание, и искусство были чисто эмпирические и над любой практической деятельностью человека господствовали религиозные воззрения». (3)
Смысл уточнения и сводится к констатации «господства» не просто каких-то абстрактных «религиозных воззрений», а именно характерных для проторелигии долины Нила (Египта) с её парадигмой религиозного мышления, которой человечество и обязано развитием науки и медицины. Тем более что эта парадигма религиозного мышления была первой и единственной на зоре человеческой цивилизации, поэтому смысл слов М.А. Коростовцева всецело относится к «господствовавшему религиозному мировоззрению» проторелигии долины Нила, возникшему задолго до генезиса религии Осириса.
В то время как «религиозные воззрения» жречества религии Осириса, унаследованные ортодоксальным Христианством, имели диаметрально противоположное влияние на процесс развития науки, пример чему и увековечен в истории европейской (и не только) цивилизации в религиозном мракобесии «Темного средневековья».
Следовательно, необходимо понимать, какие конкретно религиозные воззрения покровительствовали прогрессу в развитии науки, а какие – препятствовали. Осмыслению чего и препятствует деятельность апологетов религии Осириса от египтологии и академической науки, в своем стремлении «натянуть сову на глобус», присвоив все заслуги в развитии науки лишь своей собственной парадигме религиозного мышления – вере в вечную загробную жизнь. Этим целям и служит навязчивая до фанатизма потребность единомышленников Г. Кееса не допустить признания в египтологии справедливости свидетельств Геродота и древнегреческих философов о приоритете египтян в создании учений о переселении души:
«Геродот (II, 123). Египтяне также первыми стали учить о бессмертии человеческой души. Когда умирает тело, душа переходит в другое существо, как раз рождающееся в тот момент. Пройдя через [тела] всех земных и морских животных и птиц, она снова вселяется в тело новорожденного ребенка. Это круговращение продолжается три тысячи лет. Учение это заимствовали некоторые эллины, как в древнее время, так и недавно». (3)
Аргументация же в пользу правомерности свидетельств Геродота воспринимается современными единомышленниками Г. Кееса от академической науки ни много ни мало в качестве «глобальных выпадов против академической науки как таковой». (L. G.)
Так что среди представителей науки есть немалый процент не просто шарлатанов, кои присутствуют в любой из сфер человеческой деятельности, а псевдоученых, примером чему могут служить единомышленники Г. Кееса – эти достойнейшие представители апологетики религии Осириса от египтологии и академической науки. По всей видимости, они умышленно извращают в Науке, с большой буквы, представления о египетской религии (религии Древнего Египта) в силу своей нарочито подчеркнутый предвзятости, что, отчасти, и характерно для гуманитарных (академических) наук, тем более ориентированных на религиоведение в его исторической ретроспективе. А эта предвзятость, обусловленная приоритетной для них кампанейщиной в продвижении в науке тех или иных далеких от научной истины установок, умышленно или по недомыслию (на выбор) искажающих предмет научного исследования, вполне закономерно, и не позволяет причислить их к настоящим ученым, главным признаком которых является беспристрастность в научных исследованиях.
О некоторых аспектах и последствиях антагонизма между двумя жреческими сословиями Древнего Египта речь пойдет далее, уже в контексте парадигмы религиозного мышления религии Осириса, обуславливая собой причину лютой ненависти ортодоксального Христианства к язычникам, воплотившейся в их жесточайшем преследовании после возведения в IV веке Христианства в статус государственной религии Римской империи.
2. Парадигма религиозного мышления жречества религии Осириса
Гипотетическая картина «аморального апокалипсиса» египетской цивилизации, являющаяся закономерным следствием умышленной фальсификации единомышленниками Г. Кееса представлений об египетской религии, позволяет воссоздать жутчайшую картину участи всего человечества в том случае, если бы вера в вечную загробную жизнь была бы исконной верой не только населения долины Нила, как это представлялось Г. Кеесу, но и составляла основу религиозного мышления на ранних этапах развития других цивилизаций.
«Аморальный апокалипсис» стал бы неизбежной участью всего человечества ещё пять тысяч лет назад, а торговля местами в раю Бога дельцов заупокойного бизнеса «поставила бы Большой Крест» на этических устоях любого общества, обнадеживая злостных нарушителей моральных и нравственных устоев социума перспективами «богатства и счастья в вечности загробной жизни», требуя лишь «малого» – оплаты услуг дельцов заупокойного бизнеса, «отворяющих врата в райские кущи» вечной загробной жизни своего Бога.
Формально, эта гипотетическая картина «аморального апокалипсиса» является следствием возведения Меркантилизма в ранг приоритетного для жречества религии Осириса «религиозного» мышления, лишь в роли «упаковки» которому и служит «вера в вечную загробную жизнь».
Она возникла на базе концепции бессмертия души в череде её перевоплощений в подлунном мире ни более чем, как результат гиперболизации продолжительности в ней периода потустороннего существования душ (перед очередной реинкарнацией), устремленного измышлениями дельцов заупокойного бизнеса в вечность.
И если парадигма религиозного мышления жречества проторелигии Египта полностью исключает коррупционноёмкие лазейки, позволяющих «Злу пиршествовать на бале у Добродетели», в чем и заключается смысл разделения «ареалов» потустороннего существования душ на подобие ада и рая.
То альтернативная ей парадигма религиозного мышления жрецов религии Осириса потворствует созданию коррупционноёмких лазейк посредством своей аморальной концепции загробного суда, целенаправленно создавая условия для того, чтобы «Зло пиршествовало на бале у Добродетели», в контексте уже своих собственных представлений об обитателях рая, открывая врата в рай царства мертвых своего бога, Осириса, убийцам, ворам, казнокрадам, коррупционерам и пр. аморальным выродкам рода человеческого, презиравшим при жизни этические устои своего социума.
Поэтому представления об обитателях рая и ада в контексте этих двух парадигм религиозного мышления существенно отличаются между собой.
Об этом, в частности, свидетельствуют представления в ортодоксальном Христианстве об участи язычников как представителей альтернативной парадигмы религиозного мышления, в связи с чем они и оказались одними из первых, «кто был низвергнут в христианский ад». Дабы устрашить прихожан Церкви даже в помыслах следовать приоритетам деятельности язычников, к которым можно в полной мере причислить научную и интеллектуальную элиту как египетской цивилизации – жречество многочисленных богов проторелигии Египта, так и античного мира, чьим заслугам человечество и обязано развитием прикладных наук и медицины.
 Рис 12. Гравюра Альбрехта Дюрера «Четыре всадника Апокалипсиса».
Рис 12. Гравюра Альбрехта Дюрера «Четыре всадника Апокалипсиса».
Стоить ли удивляться тому, что Европа погрузилась в пучину религиозного мракобесия «Темного средневековья» более чем на десять веков, в каждом из которых истово верующие христиане находились в трепетном ожидании Конца Света, радостно предвкушая гибель всего человечества(!) и своего возрождения к вечной жизни, включая и тех из христиан, кто добился прощения своих грехов при посредничестве слуг Господа, священников.
О каком развитии науки и медицины, в их заботах о улучшении условий, качества и продолжительности жизни людей в подлунном мире, может идти речь в подобной атмосфере всеобщей готовности христианского мира радостно встретить Второе Пришествие и Конец Света, условно, в ежедневном режиме предвкушения этого желанное для них событие.
Поэтому и нет ничего удивительного в том, что приоритеты развития науки и медицины были не столько совсем чужды, сколько находились далеко не на первом месте в приоритетах апологетов Христианства, удовлетворяясь в обществе лишь по остаточному принципу – сиюминутной потребности цепко держаться за жизнь, утрированно, в предвкушении стать свидетелем Конца Света, а до тех пор наслаждаясь могуществом влияния Церкви на все аспекты общественной жизни европейских (и не только) стран.
Этому способствовало и далеко неискренняя вера многих христиан, пребывавших в средние века под прессингом тотального господства христианской идеологии, включая и слуг Господа, позволяя даже врожденным атеистам (безбожникам) принимать облик святош, используя эту стратегию выживания в мире ортодоксального Христианства с выгодой для себя. А она включала как материальную выгоду, так и престиж своего привилегированного положения в иерархии слуг Господа. С последним, по всей видимости, и были связаны, мягко говоря, «многочисленные греховные деяния», в частности, в среде папства Римско-католической церкви, сопутствовавшие ей на протяжении всей истории её существования (что не составляет секрета для наших современников). Этих достойнейших представителей Римско-католической церкви, уповавших на милость и всепрощение Господа, по всей видимости, не оставляла искренняя надежда – после покаяния в своих грехах другому, столь же духовному лицу, войти в Царствие Небесное, разделяя прелести райской безмятежной жизни с подобными себе…
В свою очередь, для последователей проторелигии Египта, среди которых научная и интеллектуальная элита египетской цивилизации была представлена жречеством её многочисленных богов, именно достоинства этой парадигмы религиозного мышления стимулировало их желание «прожить жизнь с Маат в сердце», что и предопределяло для них лучшую долю как в потустороннем мире, так и в своей последующей реинкарнации в подлунном мире. Период пребывание в потустороннем мире был лишь отсрочкой перед очередной реинкарнации, тем более что в нем им приходилось общаться с себе подобными, наслаждаясь душевным единением с ними. Это и соответствует в полной мере представлениям о райской жизни в потустороннем мире, в ожидании «очередной экскурсии» в подлунный мир, посредством материализации души в тело, в частности, человека, нрав и врожденные качества которого предопределены качествами его души, унаследованными ею из предыдущих реинкарнаций, лишь посредством душевной вовлеченности в те или иные сферы жизнедеятельности в подлунном мире.
Следовательно, крайне наивно и даже глупо отождествлять представления о контингенте обитателей ада и рая в контексте принципиального различия этих двух парадигм религиозного мышления, объединенных единой доктриной бессмертия человеческой души.
Вот то немногое, что следует знать о парадигме религиозного мышления религии Осириса – вере в вечную загробную жизнь, обладавшей поистине грандиозным потенциалом в организации сверх прибыльного заупокойного бизнеса. Вполне закономерно, в ущерб моральным и нравственным устоям общества, различными способами растлевая своих адептов посулами иных возможностей достижения благоденствия в вечности загробной жизни, нежели, преимущественно, добродетельными поступками при жизни.
Хотя, человечество и так медленно, но неумолимо движется в направлении «аморального апокалипсиса», благодаря усердию дельцов заупокойного бизнеса, движение к своей заветной цель которых началось в конце IV тысячелетия до н.э. в первой в истории человечества египетской цивилизации, представлявшей собой уже со времен Среднего и Нового царств полный прототип современного западного общества, что также находится вне сферы осмысления наших современников, благодаря деятельности единомышленников Г. Кееса в египтологии и академической науке.
Влияние двух жреческих сословий на вектор развития египетской цивилизации
(Реалистичный взгляд на историю египетской религии и структуру общества)
Зарождение веры в вечную загробную жизнь произошло в IV тысячелетии до н.э. в религиозной культуре населения нильской долины, преимущественно, среди жрецов племен, мигрировавших в долину Нила с необъятных просторов Северной Африки. Впоследствии эта вера приобрела своё концептуальное обоснование в мифологии Осириса где-то в последней трети IV тысячелетия, что и ознаменовало собой возникновение религии жрецов Осириса. Чему и соответствуют представления в египтологии о «первом периоде истории египетской религии», по версии О.Р. Тіеlе, формально, уподобленном «первому периоду истории религии Осириса», который соотнесен с эпохами Раннего и Древнего царств, сообразно развитию ещё несовершенных способов мумификации времен фараонов I и II династии (Раннее царство), и появлению «Текстов пирамид» в усыпальнице последнего фараона V династии, Унаса, Древнего царства.
До краха Древнего царства заупокойный культ жрецов Осириса не оказывал на адептов своей элитарной религии того тлетворного влияние, дискредитирующего в их религиозном сознании этические устои египетского общества, олицетворяемые Маат, которое последовало на втором этапе развития заупокойного бизнеса, за счет вовлечения в число адептов религии Осириса представителей наиболее состоятельных слоев общества времен Среднего царства, чему соответствовали «Тексты саркофагов», как и «второй период истории египетской религии (религии Осириса)».
Второй этап в развитии заупокойного бизнеса заложил основу для морального растления придворной знати и высших слоев общества, порождением чего стала, в частности, коррупция в административной и судебной системе госуправления, и другие негативные последствия тлетворного влияния на египетское общество заупокойного бизнеса жрецов Осириса.
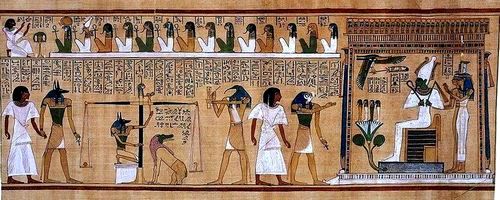 Рис 13. Суд Осириса.
Рис 13. Суд Осириса.
Третий этап в развитии заупокойного бизнеса, соответствуя «третьему периоду истории египетской религии (религии Осириса)», был связан уже с привлечением более широкого круга египтян из среды мало-мальски состоятельных представителей разных слоев общества, посредством удешевления себестоимости услуг заупокойного бизнеса для этой категории потенциальных его клиентов, чему уже соответствовала заупокойная магия свитков «Книги мертвых».
В эпоху Нового царства египетская цивилизация столкнулась с небывалыми ранее темпами дискредитации этических устоем общества за счет вовлечения в число адептов религии Осириса мало-мальски состоятельных египтян, что в дальнейшем, при сохранении этой тенденции развития заупокойного бизнеса, неизбежно имело бы последствия, сопоставимые с гипотетической картиной полномасштабного «аморального апокалипсиса» египетской цивилизации.
Этому процессу деструктивного её развития воспрепятствовали несколько факторов в своей совокупности, превалирующим среди которых являлась традиционная для египетского народа приверженность к проторелигии долины Нила. Её парадигма религиозного мышления доминировала в религиозной культуре населения нильской долины «от начала времен», сохраняя свою значимость для подавляющего большинства египтян и в последующие эпохи истории Древнего Египта. Однако это обстоятельство само по себе не смогло уберечь египетскую цивилизацию от влияния на неё аморальной деятельности дельцов заупокойного бизнеса религии Осириса, о чем и шла речь выше. Тем не менее приверженность подавляющего большинства египтян к проторелигии долины Нила (проторелигии Египта) отразилось позитивно на дальнейшем процессе противодействия здоровых сил общества Нового царства распространению тлетворного влияния дельцов заупокойного бизнеса на религиозное сознание адептов своей религии, которое обесценивало этических устои социума, дискредитируя таким образом роль и божественное предназначение богини Маат в египетском обществе!
В чем это противодействие было выражено?
Во-первых, в распространении среди адептов религии Осириса сказок, подобных «Сказке о доле богача и бедняка в царстве мертвых Осириса», которая, в свою очередь, уже подрывала доверие к лживым посулам дельцов заупокойного бизнеса о достижении счастья и богатства в вечной загробной жизни богача, благодаря лишь магии «Книги мертвых», что было равносильно пропаганде ценностей проторелигии Египта среди адептов религии Осириса, в конечном итоге способствуя уменьшению их численность!
Эта сказка явилась следствием усугубления антагонизма между жреческим сословием богов проторелигии Египта и жречеством Осириса, что было связано с дискредитацией в концепции загробного суда Осириса главных богов проторелигии Египта как номовых, так и столичных религиозных центров, «вынужденных принимать участие» в суде Осириса, исключительно, в контексте принадлежности усопшего к жителям того или иного нома.
В своей концепции загробного суда жречество Осириса выставляло главных богов номов проторелигии Египта в унизительной для их жречества роли безмозглых марионеток, которыми можно было манипулировать посредством магии «Книги мертвых», вследствие чего они и выносили оправдательные вердикты любому, кто её прикупил перед смертью, будь он самым отъявленным грешником, презиравшим при жизни этические устои своего социума.
«Умерший, ссылаясь на знание имен судей, делает их для себя безопасными и превращает свои оправдания в магические формулы, заставляющие признать его невиновность». (3)
И поскольку представления о потустороннем суде проторелигии Египта, основанном на нравственных принципах Маат – психостасии, были позаимствованы дельцами заупокойного бизнеса для своей концепции загробного суда, авторы «Сказки о доле богача и бедняка в царстве мертвых Осириса» отразили в ней приоритет процедуры загробного судопроизводства – «взвешивания сердца» (психостасии, «суда Маат») в суде Осириса, единственно определявшей участь усопшего в загробном мире, что сводило на нет значимость двух других процедур загробного судопроизводства, представлявших собой детище дельцов заупокойного бизнеса, как раз и открывавших «лазейку» для богачей в рай царства мертвых Осириса.
Поэтому в сказке превалирует сугубо нравственный принцип в суде Осириса, на то она и сказка: «сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам – урок», обесценивая заверения дельцов заупокойного бизнеса о влиянии магии «Книги мертвых» на оправдательный вердикт загробного судилища любому, кто прикупил перед смертью «Книгу мертвых»:
«Смотри, отец мой Сатни! Их души приходят на суд царства мертвых, и, если они творили добро на земле, здесь воздают им добром, но если они творили зло, здесь воздают им злом.
Так ведется извечно и не изменится никогда». (3)
Формально, эти слова Са-Осириса являлись своеобразным гимном нравственным ценностям проторелигии долины Нила, подрывающим доверие к «гарантиям» оправдательного вердикта суда Осириса для богатых клиентов дельцов заупокойного бизнеса.
И вполне закономерно, что подобная деятельность по дискредитации заупокойного бизнеса религии Осириса исходила от приверженцев проторелигии долины Нила, среди которых решающую роль в этом играло жречество номовых и столичных религиозных центров, традиционно занятое при храмах своих богов развитием прикладных наук и медицины, представляя собой интеллектуальную и научную элиту египетского общества.
Именно жречество богов проторелигии Египта оказалось в состоянии осмыслить губительные для последующего развития египетской цивилизации последствия наращивания темпов вовлечения мало-мальски состоятельных египтян в число адептов религии Осириса, возглавив здоровые силы египетского общества в борьбе с распространением её тлетворного влияние в египетском обществе. Поэтому не приходится удивляться выводу, к которому пришла интеллектуальная (и научная) элита Нового царства, сопоставляя между собой результат деятельности жречества Осириса и былую значимость для развития египетского общества концепции Маат, а этот вывод и сформулирован в качестве оглавления следующего раздела нашей «экскурсии по дебрям и закоулкам» фальсифицированных в египтологии представлений о религии Древнего Египта.
Религия Осириса враждебна всему, что собой олицетворяет Маат
Среди первых «жертв» тлетворного влияния некогда сугубо элитарной религии Осириса (времен Древнего царства), на втором этапе развития её заупокойного бизнеса, оказались наиболее состоятельные слои общества Среднего царства, представленные сановной знатью административной и судебной системы государства, как высшие и привилегированные слои общества. Именно высокий их статус в обществе и удовлетворял наиболее полно после краха Древнего царства приоритетам былой элитарности религии Осириса, понизившей «планку элитарности» во времена Среднего царства – удостоив чести лишь сановную знать иметь свое собственное «Ба», наравне с фараонами эпохи Древнего царства:
«О ба обыкновенных людей в последнем смысле слова древнейшие тексты хранят молчание – в «Текстах пирамид» упоминается только ба умершего фараона. В «Текстах саркофагов» (Среднее царство) говорится о ба погребенных в этих саркофагах представителей знати». (3)
Вовлечение номовой и столичной сановной знати в число адептов религии Осириса в качестве клиентов её заупокойного бизнеса и стало следствием «демократизации» заупокойного культа в эпоху Среднего царства, благодаря проведению «рекламной кампании» по популяризации культа Осириса в египетском обществе. В свою очередь, заупокойный бизнес времен Среднего царства гарантировал адептам религии Осириса богатство и счастье в вечности загробной жизни вне зависимости от их прижизненного морального облика:
«Земная жизнь человека не имела при этом никакого влияния на его загробное существование: злой или добрый, справедливый или несправедливый, раз над ним совершены были определенные обряды и аккуратно произносились известные молитвы, становился счастливым и богатым в загробной жизни». (4)
Столь аморальное по своей сути влияние заупокойный бизнес жрецов Осириса на религиозное сознание адептов своей религии, вопреки этическим принципам Маат(!), позволяло им наплевать на этические устои общества, стимулируя в их среде казнокрадство, мздоимство, злоупотребление в корыстных целях властью, включая судебную власть, и т.п., в надежде на возможность скопить достаточно финансовых средств на столь перспективном для своего обогащения поприще, для оплаты недешевых по тем временам услуг дельцов заупокойного бизнеса, посредством чего открыть себе перспективы богатства и счастья ещё и в вечности загробной жизни.
Закономерным следствием тлетворного влияния дельцов заупокойного бизнеса на религиозное сознание адептов религии Осириса, коими и стали во времена Среднего царства представители номовой и столичной сановной знати, стало зарождение коррупции в Древнем Египте.
В частности, тлетворное влияние на представителей судебной системы, из числа адептов религии Осириса, уже во времена Нового царства транслировалось в их религиозное сознание, посредством уподобления их деятельности в роли судей светского суда представлениям о загробном судилище Осириса, выносившим оправдательный вердикт любому, кто своевременно занес «денюшку» дельцам заупокойного бизнеса, прикупив перед смертью свиток «Книги мертвых», в связи с чем и оказывался в буквальном смысле слова «безгрешным и святым» в глазах судей загробного судилища:
«Всякий египтянин с этой главой в руках и на устах оказывался безгрешным и святым, … Таким образом, вся глава была просто талисманом против загробного осуждения». (3)
Стоит ли удивляться тому, что уже во времена Нового царства коррупция в судебной системе – взяточничество судей, представляла серьезную угрозу для общества, следствием осмысления которой в органах законодательства стали статьи указа против взяточничества судей:
«Статьи указа (Новое царство) против взяточничества судей свидетельствовали, что и на суде бедняк не находил управы на обидчиков». О.Я. Перепёлкин (8)
По всей видимости, их авторами были представители законодательной знати также из числа адептов религии Осириса, что и ограничивалось лишь формализмом, т.е. видимостью борьбы с коррупцией, к слову, как это имеет место и в некоторых современных странах: статьи-то есть, да механизм их реализации оставляет желать лучшего по тем же причинам, какие имели место в Древнем Египте…
И вполне закономерно, что за несколько веков тлетворного влияния заупокойного бизнеса на адептов религии Осириса, коррупция уже в эпоху Нового царства стала представлять собой реальную угрозу нормальной жизнедеятельности могущественной по тем временам державы мира.
Коррупция во властной вертикали представителей сановной знати, как и пагубное влияние её последствий на жизнедеятельность социума, олицетворяла собой полную противоположность тому, что являлось воплощением принципов Маат в египетском обществе «от начала времен» – ещё до возникновения религии Осириса.
К столь очевидному выводу пришло жречество богов проторелигии долины Нила, представлявшее собой интеллектуальную элиту общества, поскольку концепция Маат была детищем их парадигмы религиозного мышления, что и стимулировало её приверженцев придерживаться этических устоев общества, культивируя в них стремление «прожить жизнь с Маат в сердце». В то время как деятельность жречества религии Осириса обесценивало в религиозном сознании своих адептов принципы Маат, нанося этим вред моральным и нравственным устоям египетского общества.
Таким образом, коррупция и концепция Маат являются порождением диаметрально противоположных тенденций влияния в социуме двух парадигм религиозного мышления, представленных в египетском обществе двумя жреческими сословиями.
Египтология о Маат и коррупции времен Нового царства
1. Маат
В египтологии присутствуют весьма четкие представления о том, какое значение египтяне вкладывали в понятие Маат:
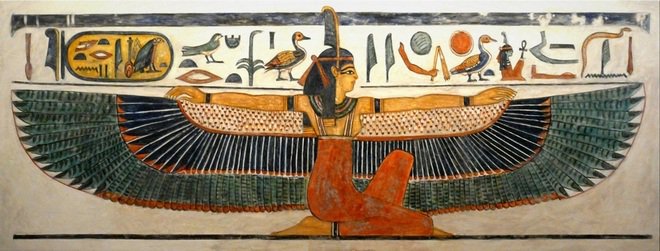
Рис 14. Маат.
«В египетском языке «маат» обозначало сложное, синтетическое понятие, объединяющее понятия: «правда», «истина», «правопорядок», «этическая норма», «божественное установление» (в природе и среди людей), «религиозные и нравственные устои» и т. п.
«Маат – это надлежащий порядок в природе и обществе, который установил творец, а посему все, что правильно и точно; вместе с тем это закон, порядок, справедливость и правда».
Тексты, в которых фигурирует богиня Маат, свидетельствуют о том, что она является обожествленным эквивалентом указанного синтетического абстрактного понятия».
«Маат во всех своих аспектах символизирует божественное установление, правильность жизненных устоев и нравственных принципов.
Концепция Маат составляет основное звено египетской этики». (3)
Автор книги «Эхнатон лжепророк Египта», Николас Ривз, вполне адекватно воспринимает смысл эпитета «анх эм маат», использованного Эхнатон по отношению к себе и той цели, которую он преследовал, начиная свою религиозную реформу:
«Живущий в Истине
С самого начала своего правления Эхнатон использовал эпитет анх эм маат, который переводится как «живущий в Истине», хотя более понятным будет другой перевод: «живущий в соответствии с должным порядком вещей». Стремление к такой жизни лежит в основе всего 17-летнего правления царя: ясно, что он задумал вернуться к изначальным принципам, быстро и безжалостно (чем бы ни объяснялась такая срочность) вернуть людей на тот жизненный путь, с которого, как он считал, они сбились.
Тем не менее, основной чертой его правления стал не возврат старого, а создание нового». (7)
Смысл эпитета «анх эм маат – живущий в Истине» правильнее интерпретировать в качестве своеобразного лозунга, лаконично формулирующего курс проводимой Эхнатоном религиозной реформы – «восстановление Маат», т.е. восстановление утрачиваемой в египетском обществе значимости «изначальных принципов» Маат – этические устои, законность, справедливость, правда и т.п., что и предполагало его стремление «вернуть людей на тот жизненный путь, с которого, как он считал, они сбились».
При этом Н. Ривз, совершенно правильно воспринимает замысел Эхнатона «вернуться к изначальным принципам», не имея(?) четких представлений о причине и целях реформы Эхнатона, упуская возможность(?) связать «изначальные принципы» с Маат, о которой он и завел речь в контексте реформы Эхнатона в начале абзаца. Завершая этот абзац, он делает вывод, полностью перечеркивающий адекватность его предшествовавшего хода размышлений:
«Тем не менее, основной чертой его правления стал не возврат старого, а создание нового».
По всей видимости, совершая этот алогичный кульбит в ходе своих размышлений в пределах одного абзаца, он руководствовался стремлением выразить свою лояльность по отношению к воцарившейся в египтологии апологетике религии Осириса, подчеркивая свою принадлежность к «большинству современных египтологов» (заурядная кампанейщина), оболгавших фараона-реформатора, руководствуясь лишь мнением его заклятых врагов, взявших реванш после смерти Эхнатона:
«Переезд (перенос резиденции Эхнатона из Фив в Ахетатон – современная эль-Амарна) был в высшей степени драматичным поступком, и большинство современных египтологов считают, что его совершил религиозный фанатик». (7)
Завершая свою книгу эпилогом, Н. Ривз разразился в нем тирадой, ни без пафоса обличающей Эхнатона:
«Люди и представить себе не могли, как низко падет этот режим в скором времени, с каким отвращением и ненавистью последующие поколения будут вспоминать архитектора этих гигантских изменений». (7)
Это и есть образчик выражения искренней ненависти апологетов религии Осириса от египтологии и академической науки к Эхнатону и его реформе, что вполне объяснимо:
Эхнатон пытался не допустить надвигавшегося на египетскую цивилизацию «аморального апокалипсиса», в чем и преуспел, оставив о себе добрую память у потомков, традиционно придерживавшихся принципов Маат проторелигии долины Нила в своем стремлении «прожить жизнь с Маат в сердце». А именно это стремление большинства египтян и увековечено в свидетельствах Геродота и других античных авторов о египетском народе, как «о самом благочестивом из всех народов», соответствуя и представлениям Яна Ассмана, написавшего об этом в книге «Египет: теология и благочестие ранней цивилизации»:
«Геродот и другие античные авторы подтверждают сложившееся у нас впечатление, называя египтян самым благочестивым из всех народов». (6)
Этот отзыв о благочестивом нраве египетского народа и является свидетельством сохранения в народе доброй памяти о фараоне-реформаторе, который первый в истории человечества возглавил непримиримую борьбу с коррупцией, и сделал многое для того, чтобы не допустить «аморального апокалипсиса» египетской цивилизации, что, в конечном итоге, завершилось победой здоровых сил египетского общества к концу I тысячелетия до н.э.
С отвращением и ненависть к Эхнатону относились лишь коррупционеры, взяточники и пр. «достойные» адепты религии Осириса как во времена его реформы, так и впоследствии, когда жречество религии Осириса взяло реванш после преждевременной кончины Аменхотепа IV–Эхнатона, восстановив свое влияние на династию фараонов, возродив и усугубив былой разгул коррупции и поругания принципов Маат среди своих адептов, о чем речь пойдет далее.
2. Коррупция
В свою очередь, в египтологии столь же известно о засилье коррупции, в частности, в судебной системе времен Нового царства, свидетельством чему являются тексты: «Статьи указа против взяточничества судей…», времен Новое царства.
Тем более что коррупция в судебной системе – «взяточничество судей» в масштабах, которые настолько пагубно отражались на жизни социума, что требовали мер борьбы с ней посредством законодательных актов: «Статьи указа против взяточничества судей», свидетельствует о высочайшей степени засилья КОРРУПЦИИ в административной и судебной системе Нового царства.
Понятия о «законности, справедливости и правде», олицетворяемые Маат, несовместимы с представлениями о взяточничестве судей и коррупции, в целом, что является, по всей видимости, далеко неочевидным фактом лишь для апологетов религии Осириса от египтологии и академической науки, характеризуя их деятельность в египтологии соответствующим образом.
Они преднамеренно игнорируют факт засилья коррупции в административной и судебной системах Нового царства при выяснении причины религиозной реформы фараона XVIII династии, Аменхотепа IV– Эхнатона, проводимой им «под лозунгом» восстановления Маат.
Вследствие чего, в египтологии возникает серьезная проблема с выяснением причины религиозной реформы Эхнатона и её целей, как об этом пишет Т.А. Баскакова (египтолог, кандидат исторических наук, переводчица с немецкого) в предисловье к книге Яна Ассмана «Египет: теология и благочестие ранней цивилизации»:
«Трактовка религиозного переворота Эхнатона это одна из самых трудных тем в египтологии». (6)
«Трактовка религиозного переворота Эхнатона» как раз и становится одной «из самых трудных тем в египтологии» в связи с засильем в ней апологетов религии Осириса, регламентирующих в академических кругах египтологов направления «научного», в кавычках, поиска причины религиозной реформы Эхнатона, категорически не допуская какой-либо возможности связать между собой коррупцию, засилье которой в административной и судебной системе легло тяжким бременем на народ и царскую казну, с источником, её породившим в египетской цивилизации – с заупокойным бизнесом жречества религии Осириса.
Столь же прекрасно в египтологии известно, что жречество Осириса, взявшее реванш после смерти Эхнатона, полностью восстановило свое тлетворное влияние на последующие династии фараонов и их сановную знать, о чем свидетельствует возродившаяся коррупция, в частности, взяточничество судей, с которым приходилось уже «бороться» фараонам XIX-XX династии, проявлявшим «трогательную», в кавычках, заботу о простом народе, в большей степени страдавшим от попрания принципов Маат в судах! Эхнатон же своей реформой и пытался восстановить торжество принципов Маат в том числе и в судебной системе.
О.Я. Перепёлкин описывает эту «трогательную» заботу о простом народе в книге «История Древнего Египта» следующим образом:
«Важным мероприятием в пользу простых египтян явился указ фараона Хар-ма-ху (Хар-м-ха). Царь придавал большое значение своему указу и позаботился о широком его обнародовании.
Хар-ма-ху (Хар-м-ха) требовал прекратить грабеж и вымогательства, которым подвергались простые египтяне, и грозил ослушникам суровыми карами: телесными наказаниями, увечьями, ссылкой.
Фараон выступал тоже против взяточничества судей, от которого, естественно, всего больше страдали бедняки.
С этой целью он слагал с судей налог в пользу казны». (8)
Вывод О.Я. Перепёлкина(?) о налоге с судей за их мздоимство, посредством его отождествления со средством борьбы со взяточничеством, мягко говоря, достоин удивления, поскольку этот «налог в пользу казны» и поощрял судей к взяточничеству. Даже те из судей, кто ранее взяток не брал, после введения такого налога уже были вынуждены брать взятки, чтобы из них и покрывать свои издержки на уплату этого налога. Так что этот налог вовсе не способствовал борьбе с мздоимством судей, а поощрял их, поскольку взымался в пользу казны.
Аналогичные меры борьбы со злоупотреблениями чиновников присутствуют в законодательной практике некоторых современных стран, так что египетская цивилизация эпохи Среднего и Нового царства значительно ближе к современной действительности, чем пытаются её представить апологеты религии Осириса от египтологии и академической науки.
И более того, представления об Эхнатоне, как о первом в истории человечества главе великой державы, объявившем непримиримую войну коррупции и источнику её породившему, проявляя заботу о нравственном здоровье своего народа, актуализирует как никогда тему его религиозного переворота для современной действительности!
Даже не задумываясь о причине возникновения коррупции в египетской цивилизации, О.Я. Перепёлкин констатирует вполне закономерный результат подобной борьбы с взяточничеством судей:
«Требование неподкупности судей осталось, конечно, невыполненным пожеланием». (8)
В свою очередь, «грабеж и вымогательства, которым подвергались простые египтяне»(8) уже после смерти Эхнатона и восстановления религии Осириса в статусе религии фараонов, характеризуют последствия тлетворного влияния её заупокойного бизнеса на своих адептов, которые и промышляли грабежами и вымогательством, игнорируя этические устои египетского общества, строго-настрого запрещавшие это, действуя таким образом вопреки принципам Маат. По всей видимости, презирая богиню Маат, адепты религии Осириса питали надежду прикупить перед смертью у дельцов заупокойного бизнеса «Книгу мертвых», в связи с чем и оказаться в буквальном смысле слова «безгрешными и святыми» в глазах судей загробного судилища:
«Всякий египтянин с этой главой в руках и на устах оказывался безгрешным и святым, … Таким образом, вся глава была просто талисманом против загробного осуждения». (3)
На их примере и можно получить представления о контингенте обитателей рая в царстве мертвых Осириса, сообразно представлениям о рае своего бога дельцов заупокойного бизнеса.
Коррупцию во времена Среднего и Нового царства в среде сановной знати можно представить в качестве надводной части айсберга результатов тлетворного влияния на египетское общество заупокойного бизнеса религии Осириса, значительно большая подводная часть которого и была представлена деятельностью других многочисленных адептов религии Осириса, презиравших богиню Маат, которые и принимали участие в «грабежах и вымогательстве простых египтян».
Таким образом, апологеты религии Осириса от египтологии создают, «казалось бы, на пустом месте» проблемы для египтологии, в частности, умышленно препятствуя адекватному восприятию причины религиозной реформы Эхнатона, преднамеренно игнорируя в своей академической среде факт засилья коррупции во времена Нового царства, порожденной в египетской цивилизации аморальным заупокойным бизнесом жрецов религии Осириса.
Как видим, круг замкнулся…
Некоторые аспекты религиозной реформы Эхнатона
Структура египетского общества времен Нового царства
Структура общества Нового царства при Эхнатоне была во многом тождественна структуре современного западного государства, о чем также умалчивают апологеты религии Осириса от египтологии все по той же причине, по какой они пытаясь скрыть существование двух жреческих сословий, и их роли в жизни египетского общества и единой державы Древнего Египта.
Между сановной знатью административной и судебной системами государства и жречеством богов проторелигии Египта, занятым в сфере развития прикладных наук, существовала такая же разница, как между чиновничеством госаппарата современного государства и представителями различных научных институтов. Утрированно, последние участвуют в реализации тех или иных государственных проектах в роли авторитетных консультантов и разработчиков проектной документации, а также, например, выполняя обязанности «главных инженеров», отслеживающих соблюдение проектной документации в процессе выполнения, в частности, общего объема строительных работ.
В то время как руководитель стройки, являясь государственным чиновником, выполняет организационные функции по координации деятельности всех подрядных организаций, исключительно, административными методами. Поэтому распоряжением финансовых средств, выделенных из царской казны на реализацию того или иного проекта, занимались во времена Среднего и Нового царств, преимущественно, госчиновники высокого ранга – сановная знать из числа адептов религии Осириса, вследствие чего они и распиливали бюджет вверенной их заботам, условно, «стройки», сообразно своему положению в иерархии властной вертикали и степени подверженности тлетворному влиянию религии Осириса.
Роскошь и нравы сановной знати времен Нового царства описывает О.Я. Перепёлкин в книге «История Древнего Египта»:
«Роскошь, которую позволяла себе знать, была действительно необыкновенной: золото, черное дерево, слоновая кость, страусовые перья, тончайшее полотно, цветы, курения, благовония... Стоило, говорили, сановнику кликнуть одного слугу, как откликалась тысяча. И, приветствуя господина, слуги и подчиненные падали перед ним ниц.
Но точно так же, как знать заставляла пресмыкаться перед собой подчиненных, она сама пресмыкалась перед царем, и великолепный двор приветствовал его, лежа на животах и лобзая землю». (8)
Как свидетельствует история авторитарных государств, нравы и стремление к роскоши египетской сановной знати времен Нового царства остаются до сих пор неотъемлемым атрибутом чиновничества высшего (и не только) ранга.
Роль чиновничества – организация жизнедеятельности государства сугубо в контексте приоритетов, установленных верховной властью, что подразумевает под собой строгое (Сатурн, 10 дом) следование ими своих обязанностей в иерархии властной вертикали, естественно, лишь при условии отсутствия в ней негласно легализованного коррупционного механизма обогащения (Юпитер, 9 дом). А зарождение коррупции в Древнем Египте после краха Древнего царства и способствовал аморальный (коррупционноёмкий) заупокойный бизнес религии Осириса, которая в качестве элитарной религии и была ориентирована на представителей высших кругов чиновничьего аппарата – сановную знати времен Среднего царства.
Роль жречества религии Осириса в египетском обществе Среднего и Нового царств на все 100% можно уподобить в современном западном обществе роли Христианства, возведенного в статус государственной религии, либо пользующемуся его покровительством посредством предоставления многочисленных льгот, естественно, на взаимовыгодных условиях. Христианство же унаследовало из религии Осириса её парадигму религиозного мышления, проповедуя среди своей паствы апологетику веры в вечную загробную жизнь.
В свою очередь, жречество богов проторелигии Египта, как представители научной элиты египетского общества, руководствуясь совершенно иной парадигмой религиозного мышления в своей научной деятельности и повседневной жизни, проявляло вполне закономерный антагонизм по отношению к жречеству бога Осириса в той же мере, в какой, например, начиная с эпохи Возрождения усугубился антагонизм между представителями науки и Церкви, включая его присутствие в Византийской империи между, в частности, представителя школ греческой философии и Церковью.
Следовательно, антагонизм между двумя жреческими сословиями религии Древнего Египта, одно из которых отдавало предпочтение лишь «эфемерности» вечной загробной жизни адептов своей религии (уподобляясь приоритетам деятельности Церкви), а другое – улучшению условий жизнедеятельности людей, их здоровью и продолжительности жизни в подлунном мире (Наука), существовал с момента возникновения религии Осириса в конце IV тысячелетия до н.э., не ослабевая, а лишь обостряясь, чему свидетельством и является религиозная реформа фараона XVIII династии, Аменхотепа IV–Эхнатона.
* * * * *
Религиозной реформе Эхнатона предшествовал длительный период её подготовки под руководством его отца, Аменхотепа III, при котором культ бога Атона был возвышен до уровня одного из главных богов правящей династии.
Религиозная реформа Аменхотепа IV-Эхнатона и явилась решающим событием в истории египетской цивилизации в процессе противостояния здоровых сил египетского общества тлетворному влиянию на него заупокойного бизнеса религии Осириса.
Главной целью проведения реформы Эхнатона была борьба с засильем коррупцией в административной и судебной системах Нового царства, как и с иными столь же пагубными последствиями («подводной части айсберга коррупции») тлетворного влияния заупокойного бизнеса религии Осириса на своих адептов, росту численности которых способствовала «демократизаций» заупокойного культа, посредством широкомасштабной рекламной кампании по популяризации культа Осириса по всему Египту.
Эта тенденция развития заупокойного бизнеса потенциально приближала египетскую цивилизацию к «аморальному апокалипсису» – тому идеалу в представления апологетов религии Осириса от египтологии, который достижим лишь в том случает, когда все население долины Нила будет исповедовать веру в вечную загробную жизнь. Нечто подобное единомышленники Г. Кееса и пытаются протащить в египтологию, категорически отвергая свидетельство Геродота, настаивая на том, что вера в вечную загробную жизнь была исконной верой всего населения долины Нила, вследствие чего и возникает гипотетическая картина «аморального апокалипсиса» египетской цивилизации.
Деятельность жречества религии Осириса во времена Нового царства и была устремлена на реализацию этой заветной мечты апологетики религии Осириса, посредством увеличения числа адептов своей религии в процессе так называемой «демократизации» заупокойного культа.
Борьба с коррупцией и иными проявлениями тлетворного влияния религии Осириса на египетское общество, ставшая крайне актуальной во времена Нового царства, и предопределила непримиримую решимость Аменхотепа IV–Эхнатона её искоренить самыми жестокими методами, с чем и связаны представления о возникновении во времена его правления религиозной НЕТЕРПИМОСТИ:
«Это время характеризовалось также религиозной нетерпимостью, гонениями и полицейским контролем». Ян Ассман. (6)
«В правлении Эхнатона впервые и один единственный раз в истории древнего Египта проявилась религиозная нетерпимость». М.А. Коростовцев (3)
Религиозная нетерпимость в эпоху правления Эхнатона, вполне оправданная высокими целями его реформы, совершенно превратно истолковывается в египтологии, дескать, он пытался навязать всем египтянам религию лишь своего единого бога Атона, внедряя якобы единобожие в религиозную культуру населения долины Нила, в связи с чем и преследовал, условно, «непокорных язычников», противившихся его воле, что является полнейшей профанацией причины и целей реформе Эхнатона.
Возможно, кто-то из египтологов придерживался этих взглядов под влияние воцарившейся в академических кругах египтологии кампанейщины единомышленников Г. Кееса, тем не менее и О.Я. Перепёлкин придерживался в своей книге «История Древнего Египта» аналогичной позиции:
«Своего царского бога фараон противопоставил прочим богам Египта в их человеческих и животных образах как зримое солнце, такое же единственное, как сам египетский царь». (8)
Возведение бога Атона (в образе солнечного диска) в статус верховного бога возглавляемой Эхнатоном царствующей династии, совершенно не являлось каким-то исключительным и небывалым событием в истории египетской цивилизации. Например, верховным богом V-VI династии стал бог Ра, также олицетворявший собой Солнце, а бог Амон-Ра был верховным богов, в частности, царей XVIII династии, которые предшествовали Эхнатону. Поэтому он поклонялся своему богу Атону в той же мере, в какой фараоны V-VI династии поклонялись богу Ра, вполне закономерно, возвысив его над всеми остальными богами, а предшественники Эхнатона на царском престоле XVIII династии поклонялись Амону-Ра с тем же пиететом, и не более того.
Гонению при Эхнатоне подверглось жречество бога Осириса и ряда других богов, мифологически связанных с богами из мифа об Осирисе – бог Ра, Амон-Ра и др. В то время как жречество номовых богов проторелигии долины Нила, как представители интеллектуальной и научной элиты общества, были сторонниками реформы Эхнатона, что также пытаются скрыть единомышленники Г. Кееса от египтологии. Они, в большинстве своем, умышленно лгут, выражая свою лояльности к мнению «большинства современных египтологов» из числа единомышленников Г. Кееса, а иные, возможно, добросовестно заблуждаются, приписывая Эхнатону, в частности, пресловутое единобожие, чем и пытаются объяснить его религиозную нетерпимость к жречеству всех прочих богов, тем самым скрывая истинную цель его реформы. А в её приоритете была религиозная нетерпимость, прежде всего, к жречеству Осириса, выраженная посредством запрета религии Осириса и её заупокойного бизнеса, что и камуфлируется пресловутой идеей единобожия религии Эхнатона в качестве причины его нетерпимости к разным богам, среди которых и «затерялся» ставленник апологетов религии Осириса, не привлекая к себе особого внимания…
Любая доминирующая в социуме при посредничестве «фараона» религия, в приоритете для которой являются этические устои общества, подобные тем, что олицетворяла собой богиня Маат в Древнем Египте, и должна проявлять НЕТЕРПИМОСТЬ в самых резких формах к любым проявлениям в обществе тенденций к поруганию его этических устоев! Что в полной мере относилось к тлетворному влиянию адептов религии Осириса на египетское общество.
В случае религиозной реформы Эхнатона нетерпимость проявлялась не просто к коррупции как таковой, но и к источнику её распространения – к религии Осириса, поэтому и фигурирует в контексте реформы Эхнатона терминология «религиозной нетерпимости».
Иными путями коррупцию невозможно было бы искоренить, чему свидетельствует, отчасти, пример борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти (и не только) в современном Китае – высшая мера… Так что пример борьбы с коррупцией в Китае вполне сопоставим с адекватными представлениями о жестких методах проведения реформы Эхнатона: «религиозная нетерпимость, гонения и полицейский контроль», с одним лишь уточнением: Эхнатон боролся не просто с коррупцией, как в Китае, а ещё и с источником её распространения – с религией Осириса и с её аморальным заупокойным бизнесом.
М.А. Коростовцев дает весьма адекватную характеристику непримиримому нраву Эхнатону в процессе воплощения в жизнь своей реформы, уточняя одну существенную деталь, которая косвенно и свидетельствует о его борьбе с коррупцией:
«Аменхотеп IV был менее всего благодушным мечтателем, каким его слишком поспешно хотели представить некоторые исследователи. Это был грозный властитель, и страшны были расправы, которые он чинил над ослушниками своей воли...
Гнев фараона постигал не только деятелей предшествующего царствования, но также, и притом едва ли не в большей мере, собственных сподвижников царя, еще недавно облеченных им властью и доверием». (3)
Чтобы авторитарному правителю, искренне озабоченному искоренением коррупции в своей стране, достичь желаемой цели, он должен начать борьбу с коррупцией со своего ближайшего окружения, что в настоящее время стало прописной истиной, а нечто подобное и описывает М.А. Коростовцев, акцентируя внимание на кого был обращен гнев Эхнатона – на «собственных сподвижников царя, еще недавно облеченных им властью и доверием».
Фараон Аменхотеп IV-Эхнатон – это достойный пример для подражания любому правителю, искренне озабоченному нравственным здоровьем своих подданных.
От засилья коррупции в административной системе страдала царская казна в результате откатов и распилов финансовых средств, выделенных из неё на реализацию масштабных (и не только) проектов, что, вполне закономерно, стимулировало заинтересованность в проведении реформы самого фараона и его советников из числа жречества богов проторелигии долины Нила (интеллектуальная элита Нового царства), совместно озабоченных «нецелевым расходованием бюджетных средств из казны». Но в столь же плачевном состоянии, как и царская казна, оказалась защита прав в судах представителей простого народа в результате взяточничества судей, что самым бесстыдным образом дискредитировало предназначение богини Маат в судебной системе!
Приоритетом же охраны и восстановления Маат обладал лишь фараон:
«Фараон, как сын бога и представитель богов на земле, должен был охранять Маат – правопорядок». (3)
 Рис 15. Маат.
Рис 15. Маат.
Вполне естественно, что Маат отождествлялась не только с правопорядком, но и с этическими устоями египетского общества, установленными богом-творцом:
«Маат – это надлежащий порядок в природе и обществе, который установил творец, а посему все, что правильно и точно; вместе с тем это закон, порядок, справедливость и правда». «религиозные и нравственные устои». (3)
Таким образом, в религиозной реформе Эхнатона были заинтересованы все слои общества Нового царства(!), включая представителей его научной и интеллектуальной элиты – жречества многочисленных богов проторелигии долины Нила, оказавшего, пожалуй, архиважное влияние на решимости Эхнатона начать непримиримую борьбу с коррупцией, как и с породившей её религией Осириса.
Поэтому и не должно вызывать какого-либо отторжения факт признания важной роли жречества богов проторелигии Египта в поддержке религиозной реформы фараона XVIII династии, Аменхотепа IV–Эхнатона.
Поскольку именно этот факт(!) и объясняет лютую ненависть ортодоксального Христианства, унаследовавшего парадигму религиозного мышления жрецов Осириса, к язычеству, как раз и представленному, в частности, жречеством многочисленных номовых богов проторелигии долины Нила, святилища и храмы которых подлежали уничтожению, начиная с IV века.
Какими средствами Эхнатон планировал бороться с этими пагубными для египетской цивилизации явлениями, сулившими ей в будущем перспективами всеобщего «аморального апокалипсиса»?
О них также прекрасно известно в египтологии:
1. Устранение причины, породившей коррупцию в египетской цивилизации – категорический запрет религии Осириса и её заупокойного бизнеса, подтверждение чему также присутствуют в египтологии:
а) О запрете религии Осириса свидетельствовало отсутствие в столице Эхнатона, современной эль-Амарне, упоминаний об Осирисе и других богах из его мифологии:
«вездесущий властелин иного мира Осирис, равно как и его угрюмая свита, в эль-Амарне нигде не встречалась». Н. Ривз. (7)
б) При правлении Эхнатона из представлений о загробном мире были полностью изъяты упоминания о боге жрецов заупокойного культа, Осирисе, что и подразумевало под собой запрет религии Осириса:
«Бог мертвых Осирис был полностью устранен из представлений о том свете». О.Я. Перепёлкин (8)
в) «Перспективы перехода в иной МИР практически не интересовали амарнскую теологию, и Джону Пендлбери показалось, что Эхнатон «устранил смерть, отказавшись признать ее существование». Н. Ривз. (7)
Эти слов Джона Пендлбери не следует воспринимать буквально, поскольку речь идет об отказе Эхнатона признавать смерть лишь в качестве перехода души навечно в царство мертвых Осириса, и не более того, что и следовало из его запрета религии Осириса.
В то время как для альтернативной парадигмы религиозного мышления, которой отдал предпочтение Эхнатон, вернувшись к истокам возникновения концепции Маат в проторелигии долины Нила, смерть человека в череде перевоплощения его души в подлунном мире, имеет совершенно иное значение, утрированно:
Смерть человека, когда его душа покидает тело, уподобляется сну, пробуждение от которого происходит в очередной реинкарнации души в подлунном мире…
В свою очередь, этот сон в потустороннем мире, где душа сохраняет свой человеческий облик в тонком теле, сопровождается «сновидениями», суть которых и отражает её участь в загробном мире, сообразно вердикту суда Маат.
Нечто подобное и переживают люди (и не только) ночью во сне, когда временами их мучают кошмары, воздавая по заслугам или предостерегая от чего-либо, а порой сны сопровождаются либо смутными видениями предстоящих в будущем событий, что не редкость и характерно для вещих снов, либо, например, как это было в случае с Д.И. Менделеевым, «сновидение» вознаградило его визуализацией таблицы периодической системы элементов, чем он и прославился.
В этом плане фараон Аменхотеп IV-Эхнатон «значительно гуманизировал представления египтян о смерти», вернувшись в лоно проторелигии долины Нила, что является заслугой веры в вечную жизнь в череде перевоплощений души в подлунном мире.
2. Следствием запрета религии Осириса и её заупокойного бизнеса стал и запрет культа богов, мифологически связанных в богами из мифологии Осириса, что касалось, в частности, бога Ра и Амон-Ра. Их жречество представляло собой могущественную силу, на противоборство с которой и решился Эхнатон, пытаясь уберечь египетскую цивилизацию от «аморального апокалипсиса», проявляя заботу о своем народе, страдавшим в большей степени от поругания богини Маат адептами религии Осириса.
Храмы этих богов присутствовали не только в некогда «столичных» городах, но и в многочисленных номах по тем же причинам, по которым и сам Эхнатон возводил храмы Атону по всему Египту, закрепляя на местах религиозные приоритеты верховной власти, не более того. При этом он не покушался на религиозный сепаратизму номов, в храмах религиозных центров которых и развивалась наука и медицина жрецами богов проторелигии долины Нила (Египта), ставшими одними из верных сторонников религиозной реформы Эхнатона.
3. Устранение последствий для государства тлетворного влияния религии Осириса на своих адептов, в первую очередь, из среды сановной знати – удаление с государственной службы сановной знати по признаку принадлежности к адептам религии Осириса, причастных к коррупционной деятельности!
Посредством её замены на приверженцев проторелигии долины Нила, для которых желание «прожить жизнь с Маат в сердце» было приоритетным во всех сферах их жизнедеятельности, что и стало крайне актуально для воплощения в жизнь египетского общества лозунга реформы Эхнатона – восстановление Маат.
Этот важнейший нюанс религиозной реформы Эхнатона – привлечение к реализации реформы своих единомышленников из разных слоев общества, и остается за пределами своего осмысления в египтологии, замещаясь лишь какими-то пространными догадками «о связи фараона с выходцами из народа», демонстрируя явную беспомощность в адекватном восприятии причины и целей реформы Эхнатона:
«В процессе борьбы произошли существенные сдвиги в правящей верхушке страны.
Новое окружение царя было подобрано не из старинного жречества и знати, а из народа. Облагодетельствованные фараоном, выдвинутые им на высокие посты и полностью зависимые от его воли, эти новые приближенные, искренно или в целях карьеры, безропотно подчинялись фараону и делали все, чтобы прослыть убежденными поклонниками Атона». (3)
Формально, подобная точка зрения, выставляет выходцев из народа, так называемых «сирот», в образе меркантильно озабоченных сподвижников Эхнатона, а не его идейных единомышленников, что также свидетельствует об отсутствии четких представлений в египтологии о целях реформы фараона.
Фараона и выходцев из народа, которых он приблизил к себе, объединяла не только общая приверженность к проторелигии долины Нила, концепция Маат которой и была отдана на поругание жречеством Осириса адептам своей религии, но и общая цель – борьба с коррупцией во всех ветвях власти царства Аменхотепа IV, гнев которого и обрушился, в первую очередь, на сановную знать из своего окружения:
«Аменхотеп IV был грозный властитель, и страшны были расправы, которые он чинил … Гнев фараона постигал … и … собственных сподвижников царя, еще недавно облеченных им властью и доверием». (3)
Лишь начав со своего ближайшего окружения, фараон-реформатор и мог добиться результатов в борьбе с коррупцией в масштабах всего государства, о чем и свидетельствует вся последующая история попыток борьбы с ней, в большинстве случаев свидетельствуя лишь об имитации борьбы с коррупцией, формально, по тем же причинам, по которым с ней боролись фараоны как до, так и после Эхнатона, опираясь на жречество своей элитарной религии Осириса, парадигму религиозного мышления которой и унаследовало Христианство.
В книге Н. Ривз, «Эхнатон лжепророк Египта», присутствует перечисление сторонников реформы Эхнатона с примечанием 2* редактора (под научной редакцией президента Ассоциации по изучению Древнего Египта Виктора Солкина), в котором отражена позицию в этом вопросе Ю.Я. Перепелкина:
«Утопия
… Рискнем предположить, что другой силой (наравне с армией), оказавшей поддержку, стала молодежь, названная «новыми людьми» Эхнатона 2*.
Эти люди – такие как надзирающий за жречеством всех богов Пареннефер и канцлер Майя – были осыпаны почестями и заявляли, что обязаны своим возвышением исключительно благосклонности нового царя. Мы склонны верить им. Они не были связанными семейными узами или обязательствами перед старой системой, а потому должны были страстно желать исполнения воли Эхнатона.
А для более простой молодежи все происходящее казалось модным и привлекательным приключением, контрастировавшим со стабильной и, вероятно, затхлой атмосферой консерватизма Фив. Для нового поколения фараон был героем дня, человеком, восстановившим истинный порядок в египетском мире. Энергия была разлита в воздухе, а люди наполнены верой.
2* - Как это прекрасно показал в свое время Ю.Я. Перепелкин, «сиротами», обязанными своим возвышением только самому царю, были бедные свободные люди, которые были намеренно противопоставлены Эхнатоном старой фиванской знати и, одновременно, культурной и интеллектуальной элите страны. Последствия этого противопоставления, т.е. образование в Египте двух слоев знати, боровшихся друг с другом, будут одной из основных причин крушения Нового царства. — Прим. ред,» (7)
В какой-то мере можно согласиться с Н. Ривз, который сравнил реформу Эхнатона с «утопией», не имея представлений о сути и цели его реформы, поскольку борьбу с коррупцией и иными последствиями тлетворного влияния религии Осириса, в целях оздоровления нравственного климата египетского общества, и можно сопоставить с «утопией», применимо к современной действительности… Тем не менее реформа Эхнатона, возглавившего здоровые силы египетского общества с целью не допустить «аморальный апокалипсис» египетской цивилизации, отразилось позитивно в конечном итоге на нравственном здоровье египетского народа.
В связи с чем, предположение Н. Ривза о молодежи Нового царства, поддержавшей реформу Эхнатона, вполне справедливы и по современным меркам – готовности молодежи поддержать борьбу с коррупцией…
В свою очередь, Ю.Я. Перепелкин совершает две ошибки:
во-первых, причислив «культурной и интеллектуальной элите страны» к врагам реформы Эхнатона;
а во-вторых, связав причину «крушения Нового царства» с борьбой «двух слоев знати»: «образование в Египте двух слоев знати, боровшихся друг с другом».
Во-первых, «культурная и интеллектуальная элита страны» была представлена жречеством богов проторелигии Египта, занимавшимся при храмах своих богов развитием прикладных наук, о чем апологеты религии Осириса в египтологии хранят молчание либо преднамеренно, либо по собственной некомпетентности.
Поэтому вряд ли интеллектуальная элита страны встала бы на сторону сановной знати, погрязшей в коррупции, как и египетская молодежь, что в полной мере можно ассоциировать и с современным положением вещей.
Египетское общество Нового царства представляло собой почти полную копию современного западного государства, в котором также присутствует чиновничий госаппарат во главе с президентом, зачастую далеким от демократических идеалов в управлении государством, наравне с научной и интеллектуальной элитой общества, уподобленной в Древнем Египте деятельности жречества богов проторелигии Египта в их многочисленных храмах. А роль религия Осириса в западном обществе выполняет Христианство, как раз и унаследовавшее от жречества Осириса парадигму религиозного мышления, со всеми последствиями для общества антагонизма и конфронтации парадигм мышления представителей науки и Церкви.
Во-вторых, предположение Ю.Я. Перепелкина о причине «крушения Нового царства» якобы в результате борьбы между собой двух слоев знати: «образование в Египте двух слоев знати, боровшихся друг с другом», не выдерживает критики. Поскольку старая знать из числа адептов религии Осириса была лишена своего влияния во времена правления Эхнатона, а уже после его смерти и восстановления религии Осириса в статусе религии царей последующих династий, она также восстановила свое влияние в административной и судебной системе государства, в свою очередь, свергнув с высот госчиновников высшего ранга возвышенных при Эхнатоне «сирот», о чем и пишет сам Ю.Я. Перепелкин:
«Каково было положение «сирот» непосредственно после переворота, показывает указ, изданный в их защиту и вместе с тем в пользу царской казны четвертым преемником Аменхотепа IV, Хар-м-аху (Хар-м-ха).
У «сирот», бывало, не было ладьи, чтобы выполнять государственные повинности. «Сирот» грабили все, кому не лень — вплоть до рядовых воинов. С «сирот» взымали незаконные поборы. У «сирот» отнимали рабов, отбирали бычьи шкуры. Видное место среди грабителей занимали дворцовые служащие». (8)
И каким это образом крушение Нового царства стало следствием предположения об «образовании в Египте двух слоев знати, боровшихся друг с другом»? Коль скоро возвышенный при Эхнатоне «слой знати» выходцев из народа, «сирот», потерял буквально все после восстановления своего влияния «старой знати» из числа адептов религии Осириса?
Упадок Нового царства началось ещё во времена XIX династии и был связан с разгулом коррупции и прочих негативных последствий тлетворного влияния религии Осириса на своих адептов:
«В конце 19 дин. (13 в. до Р.Х.) начинается медленный упадок Нового царства, признаками которого явились ожесточенная борьба за трон, усилившаяся коррупция чиновников и нападения извне, прежде всего т.н. "народов моря". (9)
Следовательно, попытка апологетов религии Осириса от египтологии свалить вину за крушение Нового царства на результаты религиозной реформы Эхнатона – это ещё один повод для них завуалировать связь коррупции, разгулу которой обязано было Новое царство своим крушением, с тлетворным влиянием религии Осириса на египетское общество, адепты которой, в буквальном смысле слова, презирали богиню Маат и её принципы, что в конечном итоге и привело к краху Нового царства, ослабив его изнутри. Этим и воспользовались внешние враги, «прежде всего т.н. "народы моря"».
Таким образом, в египтологии присутствует исчерпывающая по своему объему исходная информация для того, чтобы сделать адекватный вывод о причине и целях реформы Эхнатона. Тем не менее игнорирование ключевых моментов исходной информации позволило апологетам религии Осириса от египтологии извратить представления о религиозном перевороте фараона XVIII династии, Аменхотепа IV-Эхнатона, преимущественно, с целью опорочить его деятельность, что и характерно для «большинства современных египтологов» (7), к которым себя причисляет Н. Ривз, посвятивший реформе Эхнатона книгу «Эхнатон лжепророк Египта».
Серьезная проблема в египтологии с адекватностью восприятия и «трактовки религиозного переворота Эхнатона» обусловлена не столько сложностью этой темы из-за недостатка информации, сколько предвзятостью её исследователей – единомышленников Г. Кееса, извративших представления об египетской религии, её жречестве и социальной структуре Нового царства. В результате чего «трактовки религиозного переворота Эхнатона» становится «одной из самых трудных тем в египтологии», как об этом пишет Т.А. Баскакова (египтолог, кандидат исторических наук, переводчица с немецкого) в предисловье к книге Яна Ассмана «Египет: теология и благочестие ранней цивилизации»:
«Трактовка религиозного переворота Эхнатона это одна из самых трудных тем в египтологии». (6)
Последствия усугубления антагонизма между двумя жреческими сословиями после смерти Эхнатона
Три фактора в своей совокупности стали препятствием на пути воплощения в жизнь устремлений дельцов заупокойного бизнеса религии Осириса ввергнуть египетское общество в пучину «аморального апокалипсиса»:
1. Исконная приверженность египетского народа к проторелигии долины Нила с её верой в бессмертие души в череде её перевоплощений в подлунном мире, достоянием которой была концепция Маат.
2. Распространение среди адептов религии Осириса сказок, подобных «Сказке о доле богача и бедняка в царстве мертвых Осириса», подрывавшей доверие к лживым посулам дельцов заупокойного бизнеса о достижении счастья и богатства в вечной загробной жизни «богача», благодаря лишь магии «Книги мертвых», что было равносильно пропаганде ценностей проторелигии Египта среди адептов религии Осириса, в конечном итоге способствуя уменьшению их численность!
Эта сказка явилась следствием усугубления антагонизма между жречеством Осириса и жречеством богов проторелигии Египта, объединивших здоровые силы общества Нового царства в борьбе с аморальной деятельностью дельцов заупокойного бизнеса. Именно жрецы богов проторелигии Египта стали единомышленниками и активными участниками религиозной реформы Эхнатон, объявившего открытую войну жречеству Осириса, которая имела свои отдаленные последствия…
3. Религиозная реформа Аменхотепа IV–Эхнатона
Он предпринял попытку радикальными методами воспрепятствовать перспективе полномасштабного «аморального апокалипсиса» египетской цивилизации, как воплощению в египетском обществе идеалов апологетики веры в вечную загробную жизнь религии Осириса, презиравших богиню Маат и её принципы.
Последующие поколения египтян выражали свою глубочайшую признательность к делам и памяти Эхнатона не на словах, а на деле, с чем и было связано увядание культа Осириса в его центре в Абидосе уже по окончанию эпохи Нового царства (…):
«По окончании эпохи Нового царства блеск Абидоса тускнеет и центр культов Осириса и Исиды перемещается дальше к югу, на острова близ первого порога Нила – Филэ и Бигэ». (3)
О более отдаленных последствиях как религиозной реформы Эхнатона, так и деятельности жречества богов проторелигии долины Нила (Египта), отразившихся позитивно на укреплении морально-нравственного здоровья египетского народа, можно судить по результатам изменения представлений о загробном суде и смысле жизни адептов религии Осириса. Уже ко второй половине I тысячелетия до н.э. представления о загробном суде и смысле жизни адептов религии Осириса претерпели значительные изменения, отмеченные М.А. Коростовцевым:
«В самом начале господства Лагидов в Египте, в царствование Птолемея I Сотера, жил верховный жрец бога Тота в Гермополе Петосирис (IV в. до н.э.). В его гробнице множество магических заупокойных текстов. В тексте № 81, в строках 18-22, говорится: «Там (т. е. в потустороннем мире. – М. К..) нет различия между бедным и богатым... нет никого, избавленного от приговора суда. Когда великий собачеголовый [бог] Тот восседает на трон, он готовится судить каждого человека по делам его, совершенным им на земле».
Эти слова свидетельствуют о весьма существенных изменениях во взглядах египтян на загробную жизнь: богатство и связанный с ним в той или иной мере ритуал погребения утрачивают свой смысл, становятся чем-то второстепенным, ибо после смерти «нет различия между богатым и бедным» и все в равной мере ответственны перед богом за свою земную жизнь». (3)
Таким образом, все три фактора в своей совокупности воспрепятствовали усугублению тлетворного влияния религии Осириса на этические устои социума, изменив даже представления о загробном суде адептов религии Осириса, что в значительной мере оздоровили морально-нравственную атмосферу жизни египетского общества уже ко второй половине I тысячелетия до н.э. Следствием этого и стали представления античных авторов и Геродота о египетском народе «как самом благочестивом из всех народов».
Эта динамика оздоровления морально-нравственного климата египетского общества во многом является отдаленным следствием религиозной реформы фараона XVIII династии Аменхотепа IV–Эхнатона. Поэтому египетский народ многие века хранил о нем добрую память, в отличие от его врагов – адептов религии Осириса, презиравших богиню Маат и её принципы, к числу которых можно причислить и современных апологетов религии Осириса от египтологии и академической науки, судя по их отзывав о фараоне-реформаторе:
«Переезд (перенос резиденции Эхнатона из Фив в Ахетатон – современная эль-Амарна) был в высшей степени драматичным поступком, и большинство современных египтологов считают, что его совершил религиозный фанатик».
«Люди и представить себе не могли, как низко падет этот режим в скором времени, с каким отвращением и ненавистью последующие поколения будут вспоминать архитектора этих гигантских изменений». (7)
Измерение представлений адептов религии Осириса во второй половине I тысячелетия до н.э., о которых речь шла выше, свидетельствовали о возникновении серьезных проблем у дельцов заупокойного бизнеса, поскольку к тому времени в приоритете восприятия суда Осириса адептами религии Осириса оказалась процедура загробного судопроизводства проторелигии долины Нила – психостасия (взвешивание сердца на «весах Маат»), как и в сказке о Са-Осирисе, обесценивая значимость магии «Книги мертвых», якобы отворявшей врата рая любому, кто её прикупил перед смертью.
Эти изменения являются свидетельством кризиса заупокойного бизнеса религии Осириса, усугубившегося к концу тысячелетия, чему способствовало и превращение Египта в колонию Римской империи в 30 году до н.э. Вследствие чего, высшее жречество религии Осириса, в поисках возможности возрождения своего бизнеса в рамках уже иной религии, проявило инициативу в покровительстве религии ранних христиан, привнеся в Христианство многое из своих наработок, включая главное – веру в вечную загробную жизнь. Поэтому и неудивительно, что вновь обращенные христиане Египта были вовлечены в заупокойный бизнес жрецов Осириса, которые к тому времени «успели сменить свою личину», став христианскими священниками, судя по присутствовавшей среди христианского населения Египта «традиции» мумификации тел усопших:
«…мумификация, идеологически чуждая христианству, была широко распространена среди христианского населения Египта». (3)
Отсроченная месть жрецов Осириса жречеству богов проторелигии Египта
Объявление Эхнатоном «войны на уничтожение» жречеству бога Осириса, посредством запрета религии Осириса и её заупокойного бизнеса, при активной поддержке его реформы жречеством богов проторелигии долины Нила, что, в конечном итоге, невзирая на реванш жречества Осириса после смерти Эхнатона, привело к стагнации и последующему кризису заупокойного бизнеса, не осталось без последствий для жречества богов проторелигии долины Нила. Тем более что оно и продолжило свою борьбу за торжество принципов Маат в египетском обществе уже после восстановления религии Осириса в статусе религии фараонов последующих династий, которая (борьба) и увенчалась, в конечном итоге, победой – кризисом заупокойного бизнеса к концу I тысячелетия до н.э., вынудившим жречество Осириса возродить свой заупокойный бизнес в рамках религии ранних христиан, значительно его модернизировав.
Формирование ортодоксального Христианства происходило под патронажем высшего жречества религии Осириса – «из Египта воззвал Я Сына Моего». (Матф. 2: 15) Поэтому жречество религии Осириса совершенно органично влилось в ряды пастырей религии ранних христиан, впоследствии активно участвую в формировании догматики ортодоксального Христианства, чему и является подтверждением ведущая роль александрийской школы теологии в её формировании – обе ереси IV и V веков родом из Александрии:
1) Арианская ересь IV века – патриархи Александрии Афанасий и Арий.
2) Монофизическая ересь V века.
«Не приходится сомневаться и в том, что в I в. н. э., когда в лоне церкви царил разброд, особенно сильно сказывалось влияние религиозного наследия древнего Египта». (3)
Большая часть из десяти заповедей Господа, как и часть Его законов, фигурирующие в Ветхом Завете, были позаимствованы Моисеем ли, Его Господом ли из религии Осириса времен Нового царства, о чем со все очевидностью свидетельствует многочисленные пункты «Негативной исповеди» («Исповеди отрицания») из «Книги мертвых».
Запрет религии Осириса Эхнатоном, при деятельной поддержке жречества богов проторелигии долины Нила был равносилен объявлению «войны на уничтожение» жречеству религии Осириса, что, вполне закономерно, не столько обострило до предела антагонизм между двумя жреческими сословиями Древнего Египта, сколько вывело его на совершенно новый уровень – «взаимного уничтожения», усугубившегося к концу I тысячелетия до н.э.
Это обстоятельство и объясняет лютую ненависть ортодоксального Христианства, после возведения его в статус государственной религии Римской империи, к язычеству, как раз и представленному, в частности, жречеством богов проторелигии Египта, разрушение святынь и храмов которых по всему Египту и увековечено в истории западной цивилизации – религиозным мракобесием «Темного средневековья».
Вполне закономерно, в число язычников вошли и мужи науки античного мира, которые не только приобщились к таинствам премудрости египетской цивилизации при храмах жречества проторелигии Египта, но переняли их парадигму религиозного мышления, что и отразилось позитивно на развивая науки уже европейской цивилизации.
Результат непримиримой борьба апологетов Христианства с язычеством, и предопределил доминирование в религиозной культуре народов Европы (и не только) лишь единственной парадигмы религиозного мышления – апологетов религии Осириса и Христианства.
Таким образом, как Эхнатон совместно с жречеством богов проторелигии Египта объявил «войну на уничтожение» жречеству религии Осириса, категорически запрещая их аморальный заупокойный бизнес, так и после возведения Христианства в статус государственной религии Римской, фактически, наследники жречества религии Осириса в Христианстве отомстили жречеству богов проторелигии Египта, начав со своей стороны «войну на уничтожение» своих давних врагов. Если, конечно, не вникать в этическую подоплеку вражду двух жреческих сословий Древнего Египта:
Эхнатон совместно с жречеством богов проторелигии Египта боролись против жречества Осириса за доминирование в египетском обществе принципов Маат и парадигмы религиозного мышления, которой человечество обязано развитием прикладных наук и медицины, как проявлением заботы её последователями об улучшении условий жизни людей, об их здоровье и продолжительности жизни в подлунном мире. В конечном итоге, эта борьба к концу I тысячелетия до н.э. увенчалось успехом, о чем свидетельствует моральный климат египетского общества, о котором можно судить по отзывам Геродота и других античных авторов, признававших египтян «самым благочестивым из всех народов». (6)
Этому же свидетельствует высочайший уровень развития науки Древнего Египта в среде жречества богов проторелигии долины Нила. Свидетельство автора «Анонимного географического трактата IV в. н. э. (34–37: сведения о Египте и Александрии)»:
«Во всяком случае, Египет преимущественно перед другими странами богат мужами, сведущими в науках. Ведь в его главном городе Александрии ты найдешь философов любого племени и любой школы. Когда между египтянами и греками возник спор о первенстве, египтяне признанные более глубокими и совершенными в мудрости, победили, и первенство было присуждено им.
И действительно, невозможно найти ни в одной области знания сведущего человека — не египтянина родом. Поэтому Египет всегда привлекал философов и мужей науки, которые отличались исключительной мудростью. Ведь они чужды какого бы то ни было шарлатанства; каждый из них доподлинно знает то, о чем говорит, и поэтому никто не берется за все, но каждый исполняет свое дело, украшая его ученостью».
В то время как победоносное шествие Христианства по европейскому континенту, объявившего «войну на уничтожение» язычеству, имело совершенно противоположные последствия для многих поколений его населения, на более чем десять веков оказавшегося под прессингом религиозного мракобесия «Темного средневековья», прервавшего на целое тысячелетие поступательный процесс развития её науки.
Истовые в своих религиозных убеждения христиане из века в век находились в ожидании скорого Конца Света, предвкушая радостное для себя событие – гибель всего человечества и … Поэтому в числе приоритетов апологетов Христианства почти полностью отсутствовала забота об улучшении условий жизни своей паствы, об их здоровье и уж тем более – о продолжительности жизни в подлунном мире. Об этом и свидетельствуют условия жизни населения Европы времен «Темного средневековья» и нескольких последующих веков, за редкими исключениями, которым европейская цивилизация обязана деятельности латентных язычников, ещё остававшимися вне пределов досягаемости зоркого Ока суда Инквизиции, который не бездействовал ещё два-три века от начала эпохи Возрождения…
Как видим, тысячелетие с лишним религиозного мракобесия «Темного средневековья» европейской цивилизации явилось следствием вытеснения из религиозной жизни населения Европы (и не только) парадигмы религиозного (религиозно-научного) мышления жречества богов проторелигии Египта и их наследников – мужей науки античного мира, борьба с которыми в Христианстве велась под лозунгом борьбы с язычеством.
Религиозное мракобесие «Темного средневековья», воцарившееся на более чем десять веков в европейской цивилизации (и не только), представляло собой некое подобие гипотетической картины «аморального апокалипсиса» египетской цивилизации, сообразно доминированию в обоих случаях лишь единственной парадигмы религиозного мышления, свойственной апологетике религии Осириса и Христианства.
Вот таким образом апологеты Христианства, унаследовавшие парадигму религиозного мышления у жрецов религии Осириса, отомстили своим врагам – сторонникам альтернативной парадигмы религиозного мышления, которой человечество обязано развитием науки, философии и медицины. Это была месть апологетов веры в вечную загробную жизнь за объявление Эхнатоном «войны на уничтожение» жречеству религии Осириса, посредством категорического запрета заупокойного бизнеса жрецов религии Осириса, адепты которой презирали богиню Маат и её принципы.
Последствия отмены непродолжительного запрета двух религий, основанных на вере в вечную загробную жизнь
Антагонизм между последователями двух парадигм религиозного мышления усугубился уже после возникновения религии ранних христиан, в частности, в Римской империи. И как это ни покажется странным, но и один из величайших императоров Римской империи, Диоклетиан, добившись за годы своего правления выдающихся результатов – а), столь же усердно боролся с проникновением христианской идеологии в среду чиновничества своей империи – б):
а) «За годы правления Диоклетиана завершился так называемый кризис третьего века в Римской империи и был восстановлен мир как внутри, так и на её границах, что было воспринято современники как возвращение золотого века».
б) «Император Диоклетиан (правил в 284–305 гг.) не питал приязни к этому развивающемуся религиозному культу и в 303 году издал указ о том, что церкви должны быть снесены, а копии Писания уничтожены.
Христиане, занимавшие высокие посты в государстве, должны были быть понижены в ранге и принести в приказном порядке, под страхом смерти, жертвы богам». (10)
Как мудрый государственник, Диоклетиан не ошибался в неблаговидных последствиях влияния Христианства на судьбу Римской империи, о чем свидетельствует последующая история её развала уже после легализации императором Константином религии христиан, получившей по Миланскому эдикту от 313 года равные права с другими многочисленными религиями Римской империи:
«В 313 году Константин издал эдикт о свободе вероисповедания, который положил конец преследованиям христиан». (10)
Эхнатон пытался уберечь Новое царство от пагубных для него последствий деятельности жречества Осириса, запретив их религию и её заупокойный бизнес в той же мере, в какой и Диоклетиан проявлял заботу о целостности и могуществе Римской империи, запрещая Христианство.
Тем не менее, как и в случае восстановления религии Осириса в статусе религии правящей династии фараонов после смерти Эхнатона, Новое царство ожидал крах, о причинах которого речь шла выше, так и после восстановления Константином в правах религию христиан, с последовавшим затем возведением ортодоксального Христианства в статус государственной религии Римской империи, её также ожидал крах:
«Если благочестивый языческий император Диоклетиан принял меры к тому, чтобы граница всегда была надежно защищена, разместив легионеров в оборонительных сооружениях по всей ее длине, то Константин решил, что войска должны находиться в городах. Таким образом он не просто оставил границы незащищенными, но и разрушил милитаристский дух империи, позволив воинам пребывать в лени и ублажать себя. А христианская религия, по мнению Зосимы, лишь ускоряла процесс разрушения, поскольку призывала отказаться от добродетелей мужественности и отваги, которые возвеличили Рим, и прославляла новые идеалы целомудрия и отречения от мира. Монахи же и вовсе вызывали у него отвращение, потому как были «бесполезны для войны или иной службы государству». Во дворцы императоров пришли не воины, а скопцы, чтобы занять свое место во власти.» (10)
Как видим, печальную участь Нового царства повторила и Римская империя. Оба эти события объединены, во-первых, исходной для них актуальностью непримиримой борьбы с влиянием на социум апологетики религии Осириса и Христианства, посредством их запрета, что и осуществили Эхнатон и Диоклетиан. В обоих случаях продолжительность запрета сопоставима – порядка 10 лет.
А во-вторых, общим для этих событием стало крушение как Нового царства, так и Римской империи, также в течение одного-двух столетий после отмены запрета этих религий, в результате которой (отмены запрета) религия Осириса стала религией фараонов последующих династий Нового царства и их сановной знати, продолжив вовлекать в число своих адептов мало-мальски состоятельных египтян, а Христианство было возведено в статус государственной религии Римской империи, продолжив свое победное шествие по странам Европы и других континентов.
Некоторые из итогов деятельности апологетов религии Осириса в египтологии
Апологеты религии Осириса от египтологии и академической науки извращают представления о религиозной культуре населения нильской долины, порождая множество проблем и внутренних противоречий в египтологии, лишь часть из которых перечислена в разделе «Последствия для египтологии «ущербности менталитета» единомышленников Г. Кееса». В этом разделе были подведены итоги рассмотрения четырех примеров аргументации единомышленников Г. Кееса, призванной дискредитировать свидетельство Геродота о приоритете египтян в создании учений о переселении души, а предвзятость и абсурдность этой аргументации, в свою очередь, свидетельствует о патологической неспособности апологетов религии Осириса адекватно осмыслить последствия развития приоритетных тезисов своей же апологетики, что её и дискредитирует. Эти тезисы не только не находят своего подтверждения в египтологии, но ещё и опровергаются хорошо известными фактами, фигурирующими в ней, что самым беспардонным образом игнорируется единомышленниками Г. Кееса, свидетельствуя об их тенденциозности в отстаивании приоритетов апологетики религии Осириса в академических кругах египтологов.
Тем не менее, например, вследствие развития тезиса об исконности веры (всех поголовно) египтян в вечную загробную жизнь возникает гипотетическая картина «аморального апокалипсиса» египетской цивилизации, наглядно демонстрирующая собой приоритеты деятельности как жречества религии Осириса, так и современных апологетов веры в вечную загробную жизнь, в частности, и в египтологии.
Доминирование апологетики религии Осириса в академических кругах египтологов создает условия для регламентации направлений «научного» поиска единомышленников Г. Кееса в сфере изучения египетской религии и не только. А их предвзятость и создает многочисленные противоречия и проблемы в египтологии, пресекая возможность реалистичного объяснение некоторым из самых значительных событий религиозной и социальной жизни Древнего Египта. К ним, в частности, относится проблема трактовки религиозного переворота Эхнатона, а также затруднения с поиском ответа на вопрос «о том, как возник образ Осириса», столь же актуальным для египтологии, делая эти темы априори недоступными для своего адекватного осмысления в науке, как и многое прочее.
В частности, серьезная проблема с «трактовкой религиозного переворота Эхнатона» обусловлена не столько сложностью этой темы из-за недостатка информации, которой вполне достаточно, чтобы сделать адекватный вывод о причине и целях реформы Эхнатона, сколько предвзятостью её исследователей – единомышленников Г. Кееса, извративших представления об египетской религии, её жречестве и социальной структуре Нового царства, в результате чего «трактовки религиозного переворота Эхнатона» становится «одной из самых трудных тем в египтологии»:
«Трактовка религиозного переворота Эхнатона это одна из самых трудных тем в египтологии». (6)
Ни менее значимым тезисов апологетики религии Осириса является категорическое отрицанием присутствия в религиозной культуре долины Нила альтернативной парадигмы религиозного мышления – веры в бессмертие души в череде её перевоплощений в подлунном мире, вопреки свидетельствам Геродота и древнегреческих философов – о приоритете египтян в создании на её основе учений о переселении души. Приоритетность этого тезиса обуславливает и усугубляет тенденциозность единомышленников Г. Кееса, совершенно неприемлемую для настоящего ученого по отношению к предмету своего исследования, позволяя им самым беспардонным образом извращать представления о религиозной культуре Древнего Египта, доказательствам чего и была посвящена эта работа, позволив совершить «экскурсию по дебрям и закоулкам» фальсифицированных представлений о египетской религии, её жречестве и пр. аспектов религиозной и социальной жизни древних египтян.
Принимая во внимание тотальное доминирование в египтологии апологетики религии Осириса, весьма нелепая ситуация возникает в связи с затруднениями в поиске ответа на вопрос «о том, как возник образ Осириса», что и констатировал М.А. Коростовцев:
«Об Осирисе существует объемистая исследовательская литература, содержащая немало противоречивых суждений и выводов, …
однако полной ясности в том, как возник образ Осириса, все же нет». (1)
Учитывая, что речь идет о главном персонаже в апологетике религии Осириса! Это её «недоразумение» демонстрирует полнейшую неспособность единомышленников Г. Кееса представить и обосновать адекватную в своей реалистичности картину исторической реальности религиозной жизни древних египтян, которая и обусловила собой возникновение образа Осириса.
И как это ни парадоксально, но тайна возникновения образа Осириса «хранится под замком» в самой же апологетике религии Осириса, что и будет продемонстрировано уже по результатам очередной «экскурсии по дебрям и закоулкам» фальсифицированных единомышленниками Г. Кееса представлений о религиозной культуре долины Нила, проведенной уже в поисках утраченного в песках времени изначального смысла образа Осириса.
Эта экскурсия и позволит внести «полную ясность в том, как возник образ Осириса», одновременно и обосновать причину происхождения (генезис) религии Осириса, что, в своей совокупности, в очередной раз позволит убедиться в несостоятельности приоритетного для апологетики религии Осириса тезиса об исконности веры египтян в вечную загробную жизнь на безальтернативной основе, а приоритетность этого тезиса и обуславливает нежелание единомышленников Г. Кееса внести «полную ясность о том, как возник образ Осириса».
В качестве одного из продолжений развития темы «Апологетика религии Осириса в египтологии» – «Утраченный в песках времени изначальный смысл образа Осириса»
Ноябрь 2024 – Апрель 2025
Продолжение последует…
Литература
1. Кагаров Е.Г. Религия Древнего Египта. С.-Петербург. Типография М. Меркушева. Невский пр. 8. 1908.
2. Кеес Г. Заупокойные верования древних египтян. От истоков и до исхода Среднего Царства. СПб.: Изд-во «Журнал ,,Нева“». 2005.
3. Коростовцев М.А. Религия Древнего Египта. Москва. Изд-во «Наука». 1976.
4. Масперо Г. Древняя история народов Востока. М. Издание Солдатенкова. 1895.
5. Видеман. Религия древних египтян.
6. Ян Ассман. Египет: теология и благочестие ранней цивилизации. Москва. Присцельс. 1999
7. Николас Ривз. Эхнатон лжепророк Египта. Москва. 2004.
8. О. Я. Перепёлкин. История Древнего Египта. СПб.: Изд-во «Журнал ,,Нева“». 2000.
9. В.В. Ребрик. Древнеегипетская магия и медицина. Санкт-Петербург. 2016.
10. Дж. Харрис. Византия. История исчезнувшей империи. 2017.
